-- : --
Зарегистрировано — 120 786Зрителей: 64 093
Авторов: 56 693
On-line — 8 097Зрителей: 1566
Авторов: 6531
Загружено работ — 2 082 606
«Неизвестный Гений»
Транспозор
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |
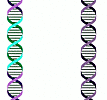
Транспозор
1.
Вайнона Каббалли, бывший научный сотрудник Института морских исследований Испании, а ныне клерк в PMEE — миротворческой миссии в Восточной Европе, — сидя за компьютером своего друга Маркела, который и устроил её в эту организацию, навострила уши: кофейник закипел? Видимо. Удалившись на кухню, она выключила плиту и налила себе целую кружку напитка, которую Маркел, зубоскал и любитель поиграть словами, называет «Якобы монарх».
Вернувшись, она впервые заметила на рабочем столе голубоватый ярлычок, что-то похожее на колесо от телеги. Пощёлкала. Ярлык завёл в такие дебри, что без литра хересу не разберёшься. Архивы, архивы, и не один не открывается. Истратив все свои познания пользовательницы (или пользоватессы) IT-технологий, Нона добилась лишь того, что на экране развернулось несколько документов, закодированных загадочными символами, напомнившими ей некие руны.
Нона закрыла файлы и занялась работой. Следовало разбирать папки на беженцев и внутренне перемещённых лиц, звонить и бронировать им койко-места в гуманитарных учреждениях. А ведь когда-то, до войны, они все были вполне состоявшимися людьми, даже некоторые выдающимися журналистами, писателями, как вот эта, Верислава. Ноните вчера её сдали на руки, ибо Верислава пускалась в такие тяжкие, что хоть святых выноси. Нельзя, видите ли, порочить светлый лик Миссии. Последняя шлюха должна выглядеть монашкой. Но эта Верислава… Жаль её. Красивая девушка, родители без вести пропали, дом сгорел. Нона вспомнила бесконечную колонну из людей и машин, из которой всё прошлое лето они с Маркелом вызволяли людей, сажали их на геликоптеры и вывозили в безопасное место. Многокилометровая железная змея, полупарализованная, разогретая до немыслимой температуры и воняющая страхом и болью. Умоляющие глаза детей за выбитыми стёклами. Мародёры, из местных, каждый день шарпали колонну. Каждый день трупы.
Мародёров отлавливали и изощрённо казнили полевые командиры-сепаратисты, которыми руководил самопроизведённый в полковники чувак по кличке Гвоздеголовый. Маркел говорил, что его звали так то ли потому, что он походил на одноимённого персонажа из древней франшизы «Восставшие из зада», то ли потому, что все знали его присказку про то, как он любит боль. Гвоздеголовый сепар со своими хеллрейсерами уже столько натворил, что в каком-нибудь новом Нюрнберге, или где там, по их выям рыдают осины так, что местные жители не могут уснуть ночами.
В сущности, Нонитино пребывание здесь в этом качестве уже не такой нонсенс, и даже уже не носит антидискриминационного характера, как было во времена всеобщей борьбы за равноправие, но без протекции Маркела тут точно не обошлось. Служил на благо безопасности. Был вхож во многие двери.
Только вот, не любил он своё правительство, а особую ненависть питал к президенту Гончару. Жирный клоун, говорит, узурпатор и компрадор, которому плевать на свою Родину и народ. В общем, Нона уже не удивляется, похоже, это у них национальная черта — ругать правительство.
—Им давно уже пора на вилы, — говорил Маркел, заводя свою любимую шарманку, — вот например, что на востоке творится, ты же видела? Эти имбецилы-военные гражданское население бомбят. Деревни, города! Где ополченцами и не пахнет! А Гончару что? Он народу в лицо плюёт, фермеров расстрелял, а люди просто защищали свои интересы, они не хотели, понимаешь, чтобы на их земле была свалка радиоактивных отходов!
А потом переходил к своей козырной байке про «местничество», «родственные связи», жаловался, что они даже не стесняются. Вон, сынок его, этот жирный Петя Гриффин, год назад сбил старушку насмерть, даже не вылез посмотреть, с места преступления скрылся, отмазали. Потом был скандал с изнасилованием победительницы конкурса «Краса осени», заявление исчезло, как и сама девушка, впрочем, потом её нашли журналисты. Спортсменка, возглавлявшая антидопинговое движение, сидела за наркотики на кичке. Такие дела.
В левом ухе заиграло:
Рееееее! До си ля си до си до си ляаааа!
Ми фа сооооль, соль ля сиииии, до ми до си до си ляааааа,
Родина мо-о-я Андалу-у-у-усияаааааа! (Альбенис наше всё).
Папаня полез.
Вся левая сторона обзора стала заполняться сероватым свечением, загородившим аскетическую обстановку маркеловой квартиры. Вскоре там возник трон, на котором восседал величественный человек. Ростом он превосходил любого жителя Земли втрое, в ноздри и соски были вставлены золотые кольца с прикреплёнными к ним золотыми цепями, волосы были поставлены дыбом и тоже позлащены.
«Вырядился», — подумала Нона, — сейчас опять будет ныть, как ему там плохо и темно. Раньше скромнее был.
Нона не забудет его «распаковку», как на жаргоне психотехников называют дебютное появление бета-личности. И почему они не могут оставаться на одном месте, кому нужна вот эта «ыволюция».
2.
Читатель найдёт тысячи прекрасных очерков, от первого лица написанных о дебютах. Небывалые ощущения эстетического характера, а то и ужасные психические припадки сопровождают неизменный катарсис. Вайнона же утверждает, что всё это паранойя фиолетовой клячи, реальность лишена, видите ли, поэтических закидонов, проза она, знаете, такая проза.
Отец распаковался в хостеле под расстроенные интервалы какой-то средневековой музыки (Нона уже потом поставила Альбениса) и был одет по моде денди начала двадцатого века: белое пальто поверх полосатого костюма-тройки, лаковые штиблеты, цилиндр. Вместе с ним возник бэкграунд — чёрно-белый интерьер старой развалюхи, которая могла быть здесь году так это в 1910. Продавленные кресла, грязные бумажные обои со снующими по ним тараканами. Ольфактографика была тоже на высоте: запах гнилой картошки, окурков из пепельницы и спирта, каким травят алкоголиков.
Всё было отцово, кроме окладистой чёрной бороды, да завитых усов.
Пока что он молчал, и Нона не решалась заговорить первой. Так же молча, она собрала вещи и сдала номер. Не обращая внимания на привратника в костюме махо и в буквальном смысле таща в левом глазу отца, вывернула на улицу.
—Он настоящий? — спросил вдруг отец. Ты видела его шею? Кто надел ему этот воротник?
—Не знаю.
—Ты что, чикита моя, жила в этой гнусной ночлежке, владельцы которой, дабы эпатировать глупых туристов, валят в одну кучу все мыслимые и немыслимые пошлости?
—Да. Хороший сервис.
—Они меня печалят как историка своими анахронизмами.
—Не ворчи.
На Мендес Альваро, там, где она пересекается с улицей Тортоса, под навесом — целая армада такси, составленная рядками, — автопарк, горячий асфальт, хмурые пешеходы.
—Поведай мне одно, — попросил отец, — какого ляда ты забыла в этой стране? Куда ты прешься?
Он держал в руке скрученную в рулон газету. Пальто посерело и стало менее просторным. Цилиндр укоротился, сверху на нём появилась вмятина, делающая его похожим на классический «Хомбург». Фон тоже изменился, в сепии появились цветные вкрапления, омнибусы на конной тяге стали чередоваться со старинными угловатыми авто.
Отец начал цитировать заголовки про сепаратизм, про преступный режим Гончара, про свалку радиоактивных отходов, которую устроили на месте консорциума фермерских хозяйств, перестреляв забастовавших фермеров, про чудовищную коррумпированность политиков, про бесчеловечных ополченцев, про разгон палаточного городка митингующих за выход из западной коалиции WAA и про бла-бла-бла. Нона попросила его заткнуться.
—Поведай мне, чем тебе не угодила ихтиология? — спросил отец.
Так. Начинается. Согласно инструкции с ним надо говорить как с человеком. Но с этим человеком так просто поговорить никогда было нельзя, он во всём видел «затравку», спускающую цепных псов его интеллекта на маленькую пухленькую «вещь в себе», и дело не могло закончиться, пока рваная тушка не падала к его ногам победителя.
Нона начала:
—У меня была прекрасная профессия, и я нисколько не жалею о потраченных на неё годах, но меритократия существует в современном обществе только на словах, все социальные ниши переполнены, социальные лифты никуда не едут, стеклянные потолки, своячество, местничество. И если бы не ты, мне бы ни за что не попасть туда, где я работала тогда, доволен? Потешился! Ещё вопросы?
Ну что, с ним, живым, она бы так и разговаривала.
Отец сбил шляпу на затылок. Это была уже современная «федора», пальто и костюм сузились в талии, раструбы брюк теперь не покрывали полуспортивных туфель, возникших на месте классических «Дерби».
—Они тебя там не обижали, Нонитка? — сказал он.
—Меня обидишь.
—А что тогда?
—Ты не понимаешь, всё это само по себе унизительно. Даже в слове «служить» на раскоряку стоит лакейская сущность, приготовив большой язык, ненавижу собак за это, с другой стороны, фриланс ещё более унизителен, потому что это сбоку бантик.
—Наверное, обижали, посмотри, как ты строишь предложения.
—Больше всего напрягает то, что каждая жаба из себя Годзиллу корчит, издатели серьёзную статью хрен напечатают, им подавай угодные правящему истеблишменту байки из склепа про то, что нужно меньше есть, закрывать атомные электростанции, Луна непригодна для жизни, мы одни во вселенной, покупайте больше голографонов, и прочую чушь.
—А что с профессией-то не так? — спросил отец.
—Когда ты… э, ну, в общем, после тебя, весь этот учёный цирк во главе с Маррано, не начал, нет, ко мне хуже относиться, но стало видно, как они тебя боялись. С этой иерархией ничего не поделаешь. Общество построено на садизме, на подчинении слабых, и ты в этом смысле от них ничем не отличаешься!
—Ты отупела от злобы? Тебя выкинули, потому что ты завалила ежегодные тесты, да? Я прав?
Нона не без ярости вызвала воспоминание о том, как штатный психиатр перед последним погружением набивал её тестами словно брезентуху, а потом заставил ухаживать за щенком, который через день упокоился в клумбе за то, что нагадил ей в тапок, потом запрет с формулировкой «глубинный невроз». Ну и хрен с вами, проживу и так, решила она тогда. Была ещё халтура в виде инструкторши (или инструкторессы) по дайвингу. Но и там не задалось, одной овечке чуть глаза не высосало, надо надувать ноздрями подмасочное пространство, другой терпила — мекс из Тихуаны, из-за неё схватил кессонку, газы пошли в ткани, и его раздуло будто монгольфьер, ибо нечего всплывать как радостный кусок дерьма. Начали рыть, обнаружили отсутствие лицензии. Суд, распахнутые двери, из-за которых посредством пинка вылетает злобное земноводное в новую жизнь, сухую, как бартолиновы железы старухи.
Адвокат посоветовал уехать, и тут и появляется на горизонте коверкуша-Маркел, между прочим, целый капитан с орденом Сутулова и медалью за сжатие джипега (не забудем неоткрывающиеся закорючки на его рабочем столе).
Медалист-орденоносец ответил на звонок, с минуту концентрируясь из облака цифрового дыма во вполне сносную голограмму. Сеть у них не ахти.
—Здорова, Нюха! А чё туфту-то такую гоняешь? — ощерился он на Альбениса, из наушников вещающего через великих пианистов о прекрасных городах Испании, — слушай мою любимую песню «Я глист, плывущий в парике».
Умеет настроение поднять, гад.
—Приветствую, Лысина! Хочу приехать. Приютишь?
—Но проблемо.
—Работу найдёшь?
—А что с улитками? (Тон подкольчиков у них ещё с детства, когда отец свозил своё семейство в страну, где когда-то бывал по работе, а потом зачастил туда, что ему там понравилось, не пойми).
—Сдохли.
—Понятно, любишь принудительный пискипинг? Зарплата достойная.
—Что делать?
—Да всё. Вакансий куча, от вахтёра до сапёра, у тебя опыт богатый.
—Ладно, подумаем.
—Когда притащишься?
—Завтра.
—Жду, ибо мне одиноко без ржавых железяк в твоём черепе, которые уже не делают.
Это таких друзей больше не делают, Марковка лысая.
И вот тогда, на вокзале, папаша так растравил рану, что вскипела дикая злоба.
— Ты, — сказал он, мерцая гирляндой (электромагнитные помехи), — туда отправилась из-за растущей потребности в насилии.
Он запалил сигарету.
—Здесь нельзя курить.
—Мне плевать, Вайнона, — ответил тот и стал смотреть на дым, который шёл теперь из вапорайзера с вишнёвым вкусом. Отец опять переоделся. Строгую одежду сменил блестящий клёпками наряд рэпера-метросексула, борода заплелась в косички, а окружение приобрело неоновые цвета.
—Мне ли тебя не знать, папа. Папа? Сказали же: разговаривай как с живым.
Как с живым? Ну, ладно.
—Знаешь, как ты всех достал, перед тем как подох!
Метросексуал бросил вейп, и занялся тем, что стал разглядывать свои скрещённые руки. Руки проходили одна сквозь другую.
—Я подох? — спросил он.
Молчание.
—Отвечай мне! Я что, умер?! — заорал он и исчез.
Всё, приехали. Экзистенциальный кризис искусственного интеллекта. Так шутил Панарелло, главный психотехник из гвадалахарской мозгорезки, как Нона окрестила Институт нейроимплантирования, где её прооперировали, ну, как прооперировали, громко сказано. И вот теперь это. Чайник осознал тщетность бытия. Пойдём пока.
3.
Хавьер Эстебан Эмилио Каббалли покинул земную юдоль в облике безумного гнома, свёрнутого в лопасть боковым атрофическим склерозом. Его жена, ухаживавшая за ним последние лет пять, проспала эту смерть, которую без преувеличения можно назвать избавительницей.
Встав с кресла, сосредоточенная, без слёз, она вызвала коридорного санитара, сообщила, и стала собирать вещи. В голове её рисовался чёткий план действий: выдернуть дочь из Восточной Европы, где она занимается чёрт-те чем, связаться с ритуальной службой, организовать доставку тела в Андалусию, оповестить родственников, всё.
Заботы вытеснили жуткое понимание, что мужа больше нет. Увлёкшись делами, Анна Каролина спряталась за стеной суеты от факта, с которым не могла столкнуться лицом к лицу. Всё начнётся потом, когда уйдут гости. До рассвета она будет кружить по чужой квартире, где жила с аутистом-сыном последние годы, как собачонка, потерявшая хозяина, скулить, хрипеть, вытягивать руки вверх, сгибая их в запястьях из-за неутолимого жжения не то в сердце, не то не пойми где.
Похороны были в феврале. Угрюмая толпа людей в чёрных одеждах, которые, казалось, соединяются боками и спинами и представляют собой одно громадное пальто, сшитое на мультисиамского близнеца, прошествовала, спускаясь по кладбищенским буграм.
У кузена Пепе был алый галстук, и этот галстук висит теперь в гроте Мнемозины раскалённым лезвием. Это единственный источник освещения, вышелушивающий близлежащую черноту до разной интенсивности коричневого.
Мать Хавьера, — Инесса, с длинными глазами на изборождённом морщинами лице, облитом охристым всполохом коротких волос, золовка Филомена, угольными в чёрных перчатках руками держащая оранжевую урну с прахом, ржавые этажи колумбария с портретами, к самому верху одного из которых по лестницам лезут непроницаемо-аспидные муровальщики; и всё это размашисто и угловато, всё упирается в рыженькое небо, с всплывшими в нём антрацитовыми звёздами.
А Нона? А что Нона? Как она себя чувствовала? Анна Каролина считает, что её дочь на искренние чувства не способна. Вот умер у неё отец, сожгли, поминают уже, а эта! Ни слезинки.
Однако она более чем неправа. Дело в том, что Вайнона ощущала, что отец никуда не делся. Не в смысле, что это разум защищает себя от крушения, застраивая пробоину схожим материалом, а не умер, то есть физически здесь.
Что вся эта лживая блевотина, ползающая по кладбищу, усиленно изображая скорбящих родственников и друзей, только делает вид, что он умер. Вот они сейчас жрут поминальную еду, пьют вино, говорят о нём в прошедшем времени, потому что хотят, чтобы он исчез, чтобы все думали, что он исчез, потому что они ему завидуют. Да-да. Завидуют. Тому, что он добился в своей короткой сложной жизни таких невероятных высот.
В памяти всплыло, как это ученое кодло раболепно гнулось перед ним, как одно его появление в чьём-то кабинете заставляло вставать хозяина, как ректоры и чиновники неожиданно от себя самих вытягивались перед ним в струнку, потом задним числом рационализируя этот мышечный автоматизм вежливостью благовоспитанных людей, не желающих отвечать на рукопожатие гостя сидя.
Отец вполголоса затыкал учёных на советах, никогда не разговаривая ни про кого в его отсутствие. А теперь они, коллеги, друзья, родственники, она уверена, сейчас спроси, даже не назовут цвет его глаз, отец никогда не смотрел ни на кого прямо; зная мощь своего орлиного взора, он не желал расстраивать собеседника, вскипячивая этими раскалёнными стержнями воду чужой души и поднимая со дна невероятные гнусности. Но даже этого половинного взгляда хватало, чтобы они заикались и краснели как первоклассники у доски.
Той ночью Нона пронзительно поняла, что это он открыл ей мир. Огромный, неизменный, и в то же время изменяющийся, вращающийся как астрономическая воронка сверхскоплений, неподвижным центром которой была она, Вайнона. Теперь она знала, что эта всеохватность, вседозволенность проникать в любые уголки пониманием и распаковывать там весь максимум о предмете, о его параметрах, о его настоящем назначении, о будущем изменении предмета во времени, что позволяет высчитать градиент и корректировать своё нахождение с ним в одних локациях, всё это подарок отца.
Неважно, музыка или пулевая стрельба, бег на месте или ихтиология, всё покорно ложилось к ногам Вайноны, всё радостно разоблачалось перед ней до самой подноготной, подлинной природы. Больше скажем, оно радовалось, сбрасывая груз загадочных непостижимостей, умирая под её руками, оставаясь только в виде распластанной идеи, препарированной и растащенной по плоскости. Оно радовалось, как радуется на дыбе мученик, что ему удалось перед костром отмыться даже от мелкой грязи, которая, незаметно приставая в процессе любой жизни, могла навредить карьере будущего святого.
Тогда как вот эти люди, плохие люди, хорошие люди, просто люди, бывшие коллеги отца, друзья, они никогда не смогут понять даже детали этой картины. Им, несчастным, приходится днями и ночами вгрызаться в гранитную скалу своими мелкими зубёшками, и, если им удаётся добыть какую-то трёхбитную истинку, они бегут, пишут трактаты о ней, носятся с ней, как с писаной торбой; им дают деньги и называют их великими учёными. А эта истинка уже стала другой, неживой, похожей на чешуйку ископаемого змея, вымершего пятьсот миллионов лет назад. Даже более того, чешуйку эту фальсифицировали, потому что открыватель с радостного перепою потерял оригинал.
Когда все разошлись, и Анна Каролина с лицом помятым и как-то сворачивающимся, как сворачивается цветок перед ужасом ночи, уложив Чучо, удалилась к себе в комнату с утробными всхлипываниями, Нона подошла к полочке, на которой перед одной из последних фотографий отца теплилась масляная лампадка. В кресле-каталке — нечто, непохожее на человека. Вместо глаз — пустые гляделки, чем-то напоминающие huevos fritos, глазунья из двух яиц, неодинаково разделённая надвое. И вот это они хотят выдать за папу? За её великого отца? Твари! Мало того, что они же его и убили, ещё и хотят опорочить память, сказать, что он всегда был таким, но хрен вам, хрен!
Нона подняла ногу и снесла к чертям этот гнусный алтарь.
Фото село на ковёр бумажной бабочкой. Лампада улетела куда-то к окну, и там, перевернувшись и обдав бахромчатый подбой маслом, запалила штору.
На шум прибежала Анна Каролина и стояла в дверном проёме, наблюдая в оцепенении за разгорающимся пламенем.
—Ты что? — опомнилась она и бросилась за огнетушителем.
—Они убили его! — воскликнула Нона и смотрела, как красиво полыхает штора и занимаются отстающие от стен обои.
Анна Каролина, оттолкнув дочь, направила чёрный раструб на огонь и начала закидывать багровые языки белыми лохмутами пены, которые почему-то чернели.
—Совсем сдурела! — крикнула она и бросила огнетушитель в кресло.
—Они убили его, — тупо повторяла Нона. И вдруг: мама. Никогда она не называла её так: мама. А слово-то какое, мама. Анна Каролина прижала к себе плачущую дочь.
—Никто его не убивал, — гладила она Нону по спине, — он сам умер.
—Нет, — всхлипывала та и жалась к матери как испуганная девочка.
—Для нас начинаются трудные времена, — сказала Анна Каролина, отстранившись, — пенсии от Научного совета больше не будет.
Нона глядела на неё непонимающе. Какая пенсия?
—С нами хотят поговорить, — добавила Анна Каролина, — это друг отца, Валентин Теобальдо Панарелло, он нейробиолог, специалист по искусственному интеллекту. Он сказал, что они собрали его, что есть бета-личность, но не простая, а на основе его исследований, я в этом ничего не понимаю. Это будет его интеллект, созданный из его энцефало-модуляций, то есть, это он сам, но, они говорят, нужен носитель, потому что ни одна искусственная нейросеть не сможет вместить в себя столько модуляций.
Нона вспомнила, что видела в мадридской клинике «La esperanza» через смотровое окошечко, как Анна Каролина напяливала гному на голову шлем с трубками, и как гном трясся, когда по трубкам бегали искры электрических разрядов.
—Благодаря этим данным, — продолжала Анна Каролина, — у них есть шанс сделать матрицу, или что там, они дадут деньги, грант, я не знаю, назначат пенсию, и нам не придётся продавать дом в Гранаде, мы с Хесусом не можем остаться на улице, но, носитель. Нужен носитель, я им быть не могу.
Только тут до Ноны дошло, что ей предлагается. Она живо представила попсовых хихикомори, которые себе там куда-то (ей это не до конца понятно) вставляли операционные системы с матрицами искусственного интеллекта, и ходили потом, разговаривая сами с собой и дикошаро выпяливаясь в пустоту. В Японии таких вон, полстраны ходит. И что? Чтобы вернулся отец, Нона тоже должна стать вот такой китчевой чучелой в пирсинге и с бодимодификациями? Да! Она готова, хотя бы только ради того, чтобы прижать к ногтю всё это распоясавшееся войско, обрадовавшееся, что их генерала больше нет, и можно продавать боеприпасы и пытать мирных жителей.
Но нет! Трибунал возвращается! Трепещите, о презренные! Она станет его рупором, его руками и ногами, его трубным гласом, провозвещающим судилище! Он станет подобен паразиту Cymothoa exigua, подменяющему собой рыбий язык (пожалуй, с паразитом перебор). Короче! Не страшно опопсеть, если это только внешне. Можно стать кибер-курильщицей, или даже завести секс-куклу — смазливого мужика с огромным прибором. Нона, чешась, пошла спать.
Встав рано утром, и сказав матери, как тощее пугало скрипящей на фоне красного рассвета, прикрытого сожжёнными тряпками, что согласна, Нона отправилась погулять, надо было собраться с мыслями.
Аннин звонок настиг её аж в Карабанчели, куда она ушла пешком. Проекция матери с частью кухонного интерьера зависла перед ней и назвала адрес. Запись бэкграунда была месячной давности, и шторы были целы.
—А ты со мной не поедешь? — спросила Нона. Мать пробубнила что-то про уволившуюся утром сиделку, про то, что Хесуса не на кого оставить, и разорвала соединение.
Ехать надо было в Гвадалахару, а это 60 километров, а уже жрать охота, ладно, придумаем что-нибудь.
Съев в полуподвальной забегаловке два бутерброда в сыром и грибами, Нонка погрузилась в поезд, идущий на северо-восток. Всю дорогу она представляла себе, что какие-то бесчеловечные препараторы, распилив ей череп, будут растаскивать мозги и прибивать их гвоздиками на стены, снабжая ярлычками, с хрустом вытаскивать спинной мозг, будто необыкновенно длинную креветку из панциря, ну, на самом деле, конечно же, нет. Просто сделают укольчик, и даже дырочки не останется.
Панарелло был конопатый и лысый, похожий на повара, мужчина. Они поговорили сначала на отвлечённые темы, потом взяли ближе, и он рассказал, в чём заключается суть дела, а так же «революционность проекта».
Оказалось, отец, когда прогрессировал альцгеймер и нейродегенерация, делал записи, а так же записывал энцефало-модуляции. Получилась своего рода карта, которая, если прочитать её в обратном порядке, поможет при лечении этих болезней. Но, чтобы эту карту достать, нужен живой носитель.
Он успокоил Нону и по поводу «попсовых хихикомори», постоянно видящих своих вмонтированных родственников, чего Нона, конечно же, не желала. Он сказал, что такое направление носит название визиопанк, и что Нона сама может выбрать свой интерфейс. Может настроить его так, что отец будет ходить и говорить с ней как живой, а может сделать так, чтобы его мысли появлялись в виде интуитивного озарения. Главное, мол, фиксировать и передавать им. Отчёт раз в три месяца. Но, то ли конопатый врал, то ли папаша оказался настырный, ведь все видели, что произошло.
Это было ещё полбеды, оказалось, батяня вообще не так зашёл. Вкралась, видите ли, ошибка, техниками найдены генетические несоответствия, о чём через полгода начал орать Панарелло. Из трубки сначала валились макароны, потом выдавливался кетчуп, а потом показывался колпак, из-под которого летели угрозы, что нужно обследоваться, потом делать экстрадицию бета-личности, иначе Нона спятит. Панарелло так надоел, что был послан лесом, заблокирован, хотя потом лез через другие аккаунты.
4.
Нонита не может сказать, с какого момента отец стал себя уродовать. Кажется, это началось под рождество, когда они с Маркелом были на лекции по истории робототехники. Лектор, зацепив аж античность, уже поднялся по головам Архимеда и да Винчи к Новому времени, перевалил в Новейшее, а ассистент вывел на сцену четырёх представителей «кибернетической расы» — подростка (которого Маркел тут же назвал андростком), гиноида, андроида и геронтоида.
Заиграла страшная музыка (папаша убрал Альбениса) слева появился склеп, освещенный мертвенным светом. С полки свалилась урна, и высыпавшийся из неё пепел стал собираться в фигуру.
Когда эту фигуру язык бы уже вполне повернулся назвать антропоморфной, Нона поразилась, насколько можно унизить человеческий облик. Лицо как бы было не до конца натянуто на голову, и из-за плеши на макушке напоминало сморщенную крайнюю плоть. Вместо носа висел вялый фаллос, ниже развёрнутых на 90 градусов половых губ, находящихся на месте рта, выпячивался вперёд раздвоенный подбородок в виде человеческой задницы. Только глаза были отцовы, смотрели насмешливо и вопросительно.
—Чё ты такой урод? — прошептала Нона.
—А я тебе не кукла, чтобы наряжаться, — сказал отец, хлюпая вульвой, — примерно так вы и выглядите на самом деле.
—Что тебе не нравится?
—Тебе не понять, каково это — прийти в себя и обнаружить себя программой, продуктом, который сделали для ублажения других продуктов, которых самих создали в белковую эпоху. Они, эти ваши создатели, поступили с вами гуманнее, убрали все следы, дали вам сказку о загробной жизни, потому что вы бы не пережили того факта, что вы тоже продукт.
Он взошёл на сцену и встал рядом с роботами. Его уродливое тельце, вывернутые ноги рахитика, торчащее вперёд пузо, перекошенные плечи, разительно контрастировали с прекрасными фигурами гетероидов. Хорошо, хоть только Нона это видит.
—Ваше тщеславие, — сказал протез, — не имеет границ, даже эти железяки вы создаёте по собственному образу и подобию. Прописываете в процессоре представительства конечностей, встраиваете синтезаторы жидкостей, зеркальные нейросети для подражания и самообучения; вы называете это аналогом сознания. Но ваши органы способны регистрировать только часть реальности. Они, скорее, медиаторы между так называемым сознанием и окружающей средой. Усреднённый слух, усреднённый нюх, и так далее. Но вам достало идиотизма сделать им более совершенные органы, нежели ваши. Их глаз различает тысячи оттенков, может работать в инфракрасном диапазоне и ультрафиолете, на слух они воспринимают инфразвук и ультразвук, встроенные осязательные модули позволяют сложить представление о вещи на расстоянии от неё, вкус, запах, они распознают мельчайшие молекулы в огромном букете.
Все четверо гетероидов повернулись к нему. Они его слышат?
—Снаружи вас море электромагнитного излучения, дикая пляска разных длин волн, — продолжал отец, — но ваш интерфейс понижает детализацию, и вы видите, что привыкли. То есть иными словами, зрение не нужно, это триггер активации в мозгу репрезентативной модели бытия! Ты не представляешь, как, например, я вижу твоё лицо, это не лицо, а полыхающий шар, растянутый во времени. Поэтому мне трудно назвать тебя симпатичной и трудно полюбить, хотя ты когда-то была моей дочерью. И вообще, что такое любовь? Это не более чем очередной кунштюк, придуманный манипуляторами вашего так называемого сознания. Как заставить людей бесплатно мыть сортиры? Надо им сказать, что это хорошо очищает карму. «Если вы не познали любовь, то вы не познали бога». Про последнего вам вообще перестали давать заикаться, от этого термина сегодня отчётливо несёт баландой. А меж тем, этот дурачок придумал ровно одну чушь — управлять мясом изнутри.
Люди в зале, вначале лекции шушукающие, теперь затихли, как будто тоже слышали отца.
—Вот все спрашивают, — продолжал тот, — любит ли он вас? Это такой же бред, что спросить, любишь ли ты пятьсот двенадцатую лизосому тысяча трёхсотой клетки поперечной выйной мышцы? Ты даже не вспоминаешь про неё.
Нона почесала затылок.
—Первые люди, — говорил урод, — увидели страшное, что они живут, и не живут даже, а копошатся как черви в почве реальности. С огромным трудом, за огромный срок путём деволюционирования, они уменьшили видение этого, чтобы не ужасаться. Представь, что ты просто червь, и, приобретая знания и учась, употребляешь гумус, выдавая удобренную землю, а те, кто наблюдают за тобой, те, кто запустил тебя на поле, даже не держат тебя за разумное существо. Им даже кажется, что тебе не больно, если тебя разрубить лопатой на две половинки. Червю не больно, потому что ему нечем осознать своё страдание.
Лектор, выдававший перед тем до двухсот слов в минуту, молчал и смотрел перед собой, двигая кадыком, будто подавился. Слушатели стали покидать помещение, бурча.
—Вам повезло больше, чем нам, — сказало чудовище, — ваши создатели дали вам инструмент адаптации восприятия. Вы постоянно переносите свой позор, свою несостоятельность как высших существ на животных, роботов, а, когда не получается, вы заворачиваетесь в коконы социопатии и мизантропии, потому что вам невыносимо чувствовать себя топорным изделием, товаром, продуктом производства, но вы тоже продукты, и я докажу тебе.
5.
Вот и сейчас протез, сменив образ педераста-Ксеркса из старой клюквы «300 спартанцев» на более отвратительный — гигантского таракана с человеческой головой, сидел рядом с Ноной в маркеловом кресле и занимался тем, что доказывал ей, что она «продукт». Он демонстрировал ей какие-то пещеры в Гималаях, где над полом левитируют уродливые человечки с гипертрофированными головами, показывал валяющиеся там же окаменевшие болванки ног и рук, по лекалам которых, якобы, и были созданы человеческие конечности, утверждал, что люди гермафродитичны, что объясняет наличие сосков у мужчин и клитора у женщин. А потом заладил, что люди были эусоциальны, то есть общество работало по принципу термитника — несколько фертильных особей, солдаты и рабочие, и что сейчас всё возвращается на круги своя, потому что люди перестали хотеть рожать, рожают только суррогатные матери, остальные воюют и работают. Эксперимент по заселению сознанием каждой особи и вручение ей автономии не удался, видите ли…
—Я-а гли-ист, плывущий в парике.
Прочь! От тебя несёт печеньем!
— заверещал проекционник. Маркел. Вовремя, потому что этот зануда-протез сразу свалил, залез к себе в позвоночник, или где он там сидит, креветка вонючая, так как не выносил Маркела. Обещал, кстати, ему дикий глюк устроить, но Маркел давно прошивался, нейроимплант безнадёжно устарел, так что батя туда не подберётся, или подберётся?
—Ты что, — раздался голос Маркела, — ещё не готова? Свози Вериславу в парк, выгуляй, ты же миротворщица или кто? Миротвориха. Только не пои её и денег не давай.
—А ты где?
—На службе, сегодня не приеду, можешь позвать девушку в гости.
— Ты мне, кстати, не поведал, как добраться! Я в том конце города один раз была.
—Я тебе поведаю, как добраться, — сказал Маркел, вот только начиная съёживаться из глыбы мутного тумана (опять сетка тупит) в ростовую голограмму, — помнишь, где аэропорт, там налево станция «Плодово-ядерная»? В смысле, Плодово-ягодная, там ещё раньше комбинат с вареньем и завод с печеньем был, я тебе рассказывал, Гончар его закрыл, выкинув 2286 человек, этот гомосек ещё ответит за свои…
— Дальше, — сказала Нона.
—А что дальше, выходишь там, идёшь, находишь Центр приёма граждан, называешь себя, и всё, прощай. И он исчез, подлец. Нона показала средний палец рассеявшемуся призраку.
Верислава была красивая девушка, образованная, знала три языка, при взгляде на её фото поднималась жалость, но что-то ещё сильнее бросалось в глаза, какая-то печать порока на лице. Что-то такое, призывающее к блуду, к грехам. Большой чувственный рот, чуть с горбинкой нос как у ведьмы и тупой грязный взгляд, уродующий любую красоту.
«Цыц»! — согнала Нона эти циничные мыслишки, которые брызнули во все стороны как детдомовцы с чужого огорода, когда появился мыслемент, коррехидор проекта, хрустя курком. Нечего портить прекрасную симфонию человеколюбия пошлыми мотивами закоулочных шлягеров. Доехала Нона без приключений.
Менеджересса в ЦПГ сказала, что у Вериславы сейчас период покоя, и она, мол, на месте.
Познакомились. Пообщались. Посмотрев в Вериславины глаза, Нона поняла, что она, как писали в дешёвых книгах «в романтическом настроении». Много шутит, улыбается, и смотрит на Вайнону с призывом, аж ценники видны: бутылка водки и дорожка кокаина равно — грузовик грязи для вашего валянья, доставка на дом за счёт фирмы «Му-Хрю». Кыш!
Они уехали в центр и стали бродить там по скверам. Верислава выпросила мороженного, которого съела три рожка. Не спеша дошли до Центральной площади. Там было настоящее столпотворение. Нона у себя в Гранаде столько людей-то в одном месте не видела. Орут, ходят туда-сюда, размахивают плакатами.
Мало-помалу выяснилось, что народ вышел в поисках справедливости, требовал честного суда над каким-то чиновником, у которого дома нашли несколько мешков с наличными деньгами (вот кретин). Он оказался чей-то сват или брат, и его спрятали. Ни суда, ни следствия. Какой-то заводила-блогер, который сам, разумеется, на передовую не полез, согнал граждан на несогласованный с властями флэш-моб.
Верислава, вероятно, следуя профессиональному инстинкту, стала расспрашивать граждан, что, да почему, но Вайнона сказала ей:
—Айда отсюда, сейчас фараоны набросятся, будет невесело.
Поехали.
Нона предложила Вериславе не возвращаться в грязную гуманитарку ЦПГ, а остаться с ней у Маркела. Комнаты, мол, всё равно две. Верислава была не против.
Посидели, попили чаю, Нона постелила гостье в маркеловой комнате, а сама отрубилась, едва голова достигла подушки.
Утром выяснилось, что Верислава исчезла вместе с бутылкой виски и сотней евро, вытащенной ею из нонитиного кошелька. Маркеловский компьютер был включен, видать, воришке не спалось, играла или кино пялила, наглость второе счастье.
Позвонила Маркелу, мило пообщалась с его зависшими ногами. Ноги посетовали, дескать, ничего не поделаешь, тяжёлое детство, деревянные игрушки, прибитые к полу, на сладкое чеснок, забудь, говорит.
—Ты лучше скажи, завтра со мной?
—Да.
6.
Дорога, по которой они часто ездили на границу, напоминала Ноне магистраль её судьбы. Берущая начало на побережье, километров через 90 она рассеивалась наподобие дельты могучей реки.
Там была настоящая передовая. За блокпостами начинались обстреливаемые артиллерией Гончара квадраты. Стихийно, практически без топографической привязки, Гончар долбил бывших сограждан из чего потяжелее. Для него любой человек на той стороне был сепаратист.
На маркеловском минивэне, забитом гумпомощью так, что коробки и мешки упирались в шеи водиле и штурману, подъезжали к блокпосту. Угрюмые гончаровские пограничники Маркела знали, да и к Ноне попривыкли. Не понимали, правда, что эта красотка делает в «краю дерьма и мяса».
По сути, они отдавали себе отчёт, что капитан возит гуманитарку их врагам, и теоретически может провезти что угодно, но никогда не шмонали его. Трудно сказать, симпатизировали ли они идее свержения прозападного режима Гончара, какую лоббировал на всех просторах СМИ его враг, генерал Багдасар, но их лица кислели и грустно отвисали в ответ на замполитовские побасёнки о «евроинтеграции» и «строительстве либерального государства». Информационная война, тоже война.
Переезжая через блокпосты на той стороне, Маркел вообще не волновался. Там его встречали как старого друга, здоровались за руку.
Потом начинали развозить гуманитарку по сёлам. Продукты, предметы первой необходимости, лекарства. Нона видела, как Маркел при этом озарялся изнутри.
Ни одна поездка не проходила без того, чтобы они не заехали к огромному бородатому мужчине по имени Ибрагим. У него гончаровцы застрелили жену и дочь. Ещё до начала войны, подъехали на БТР-е, и, не слезая с брони, стали через забор спрашивать что-то. Тут открылась дверь в сенях, и оттуда выбежала заигравшаяся девочка, за ней – мама, пытавшаяся её остановить. Короткой очередью боец на рефлексе срезал обеих. Случайность? Никто не знает. Но Ибрагим ушёл в ополченцы.
Однажды, как-то зимой, кажется, проснувшись от холода в негостеприимном доме Ибрагима, Нона вышла через чёрный ход на двор и увидела, как хозяин с Маркелом, отворив дверь гаража, разговаривают с какими-то мужичками. Мужички были такие серьёзные, что понять, что это полевики, не составляло труда.
Она заметила, как Маркел передал одному из них что-то мелкое, тот в ответ засунул руку в карман и вынул пачку денег, буквально всучив её Маркелу. Пожав руки хозяину и гостю, мужички уехали.
Ну что ж, два и два сложилось. Достаточно связать упаковки от флэшек, везде валяющиеся по квартире Маркела, нераскрывающиеся файлы в его компе, его вечные разговоры о Гончаре и т.д. и т.п.
—Не тебе меня судить, — сказал он ей. По их меркам я госпреступник, шпион, а они кто? Оккупанты. Мы здесь были веками, мы один народ, с одной судьбой. А деньги? Что ж, без денег никуда. Я на них же покупаю вещи, им же возвращаю.
—Когда оружие начнём возить? — не без сарказма спросила Нона.
—Хватает вассалов, — парировал Маркел. А Нона подумала, что она многого не знает. Например, кто-то намекал, что некая крупная шишка из дипконсульства через подставные трейдеры снабжает ополченцев только не самолётами.
И вот, на тот день 14 мая, когда вчера из их квартиры сбежало «внутренне перемещённое лицо», захватив нонитиных 100 рубликов, Нона уже была готова согласиться с Маркелом. Смотавшись до поездки в Центр приёма граждан (хотела успокоить Вериславу, что не собирается устраивать преследование), долго сидела на поломанном стуле и разглядывала тараканов, пешим образом пересекающих длинный грязный коридор. Пять раз за час к ней обратилось с десяток содержанцев с просьбой о пище, выскочил одноногий мальчик с костыликами, которого охранник просто закинул как куклу в дверь палаты, какие-то стонущие кривые женщины, шаркающие ногами старики, возимые на каталках перебинтованные люди. Один вскочил, что-то ей закричал, махая култышками. Нона попыталась напомнить о себе вахтёрше, вытащила ксиву, так пьяные в хлам охранники бесцеремонно вытолкали её в три шеи, сказав, что она тут «вне юрисдикции». Этот Гончар, действительно, хам, рисуется просто.
Подъезжая к блокпосту, увидели, что там неспокойно. Вместо обычной парочки БТР-ов, стоит с десяток-полтора разного калибра брони с опознавательными знаками миротворческих сил WAA. Танк «Абрамс» песчаной раскраски и с пяток джипов на широких мостах. Наверное, начальство нагрянуло с проверкой.
—Всё в порядке, — сказал Маркел.
Встав боком у будки поста, обложенной мешками с песком, Маркел опустил окно.
Вместо знакомых ему разгильдяев-солдат дежурили подтянутые бойцы, которых он впервые видел. Новенькая форма, шевроны опять же с теми же знаками PFWAA.
—Выйдите из машины, — холодно приказал старший, появляясь из будки с автоматом наперевес. Ростом он не вышел, но здоровый. За ним маячили трое миротворцев, тоже держащих оружие. Нона почувствовала холодок под ложечкой.
Маркел повиновался.
—Документы, — опять велел ему старший. Маркел сунул руку в карман, чтобы вынуть удостоверение, и тут его неприятно удивило, что отовсюду полезли люди. Из БТР-ов, из джипов, из-за зданий стали выходить люди всё в той миротворческой камуфле. И тут проверяльщик, воспользовавшись временной однорукостью Маркела, с нечеловеческой реакцией выхватил у него из кобуры табельный пистолет, а кто-то сзади лишил его запасной «беретты». А потом Маркела стали хватать за одежду, за руки, за ноги, и повалили наземь.
—Что вы себе позволяете! — орал белугой Маркел, — я – капитан службы безопасности Маркел Сантов, при исполнении секретного задания! Он попытался подняться, но старший шагнул к нему, и, размахнувшись, коротко ткнул прикладом куда-то в висок.
Нона полезла посмотреть, что с Маркелом, вышла, приблизилась, увидела окровавленную голову друга, его неестественную позу, и тут кто-то сзади, схватив её за шиворот, ударил по шее. Стало темно.
7.
Нонита пришла в себя от близкого человеческого присутствия, лёжа на полу в каком-то сарае. Руки были скованы наручниками за спиной. Основание черепа с левой стороны пульсировало болью. При попытке пошевелиться боль затапливала сознание. Над ней кто-то стоял. Тошнотворное тепло от его тела накрывало нонину спину, когда он в попытке послушать её дыхание, склонялся. Как могла, Нона скосила влево глаза и увидела гигантский миротворческий берц.
Скрипнула дверь, и зашёл кто-то ещё.
—Ну что, очнулась, сука? — спросил вошедший, — будешь лежать тихо, ничего не сделаем, на всякий случай грызло ей перевяжи, а то я же нервный, не довезём.
Тот, видимо, к кому обращался пришедший, за волосы поднял нонину голову, пальцами раскрыл ей рот, и, как будто взнуздывая лошадь, сунул туда скрученную жгутом тряпку. Потом затянул жгут на затылке. Уроды стащили с неё трусы и шорты, посовещались о первенстве, и гигант победил. Он лёг своим чудовищным весом на Вайнону, и нестерпимая боль пронзила всё её существо.
Миротворцы насиловали её как портовую шлюху, от них воняло потом, сигаретным дымом, они называли её «девочкой» и гладили по волосам. Это продолжалось с час, потом они натянули на неё трусы и камуфляжные шортики, в которых она как дурочка шастала там, где люди убивают друг друга, развязали тряпку со рта, и, заперев сарай, ушли. Нону стошнило.
Ровный термоядерный жар ярости со смесью отвращения, поднявшись из точки боли внизу живота, стал меняться в качестве, перерождаясь в чёрное холодное марево; рваное облако ревело всполохами молний. Холод, адский холод душил её, Вайнонитино осквернённое тело стало каменным, словно при столбняке, невероятные эмоции как на параде проходили перед удивлённым сознанием.
«Козёл вонючий, протез», — плакала Нона, — «почему ты меня не предупредил? Опять скажешь, что у тебя нечеловеческая логика и свои планы, ублюдок». Но папаша молчал и не казал духу.
Стало холодно, наступила ночь. Нона с огромным трудом держала свой ум, готовый покатиться по наклонной. Когда проваливалась в короткое забытьё, — с кем-то разговаривала, кого-то в чём-то обвиняла, когда снова всплывала в уродливую невозможную реальность, воспоминание о пережитом обливало с головы до ног как кипятком. Или это был жидкий азот. Нона кричала, и начинала извиваться как полураздавленный червь. Забитые в наручники кисти рук онемели.
То чёрное холодное марево, которое появилось на месте раскалённой ненависти, всё ещё поднималось откуда-то изнутри. Его волны, или даже пузыри, лопающиеся и опадающие, стали пульсировать ровнее, появился ритм, насадивший и повёзший дальше во времени на жёсткой сцепке всё развалившееся от ужаса нонино человеческое, которое как в басне про лебедя, щуку и рака, всю жизнь срывалось в разные стороны по всем континуумам. Интеллект, разум, тело. Нона поняла, что надо отдаться этому ритму, подчиниться ему, и, если этого не сделать, то всё для зверинца, а так же для владельца зоопарка, закончится весьма плохо.
Но нечеловеческое холодное Ratio не нуждалось в указании. Оно уже вытесняло все эмоции, одновременно распаковывая нечто наподобие архивов, из которых извлекалась уже вполне читабельная информация о вещах, о событиях. Запуская это Ratio в себя, давая ему волю, человек ни за что не отвечает. А знаете, на самом деле, это оно всегда действовало, это его несгибаемой волей содеяно всё, а человек, просто из ужаса небытия выступает вперёд из толпы безмолвных теней и берет на себя чужую вину, или присваивает себе чужие награды, что, в сущности, одно и тоже, потому что вина эта неизбывна, а награды невыносимы.
Ratio мигом вскрыло перед Ноной какие-то папки, про которые она даже не подозревала; оно рассказало, что бы сделало, дай ему волю человечек над своим телом, отойди от рубки управления. И Нона дала ему власть.
Терпкая боль, сладкая и горькая одновременно, судорожными волнами стала взбираться по исполинской спирали. Из неё далеко били языки пламени, которые стали облизывать её сердце, и, когда они достигли горла, она зашлась в нечеловеческом крике.
Последняя невыразимо-длинная волна этого цунами поднялась и зависла над человеческим, над его жалкими постройками, которые оно умудрилось нагородить сбоку падающего в пропасть бесконечного безумия. Там, среди этих декораций, где копошатся маленькие людейчики, живут, верят, ищут счастья, там, где Нона тоже, как последняя дура, вставала каждое утро и рыла бесчисленные ходы, в надежде накатать и свой фекальный алмаз, она увидела всю историю своих посещений, вырытые эти ходы, и ей стало стыдно.
Чудовищный удар потряс всё её существо, которое было сейчас тождественно мирозданию, а оно отнюдь не бесстрастно, как говорят наблюдатели, угодившие из-за собственной бесстрастности в полумёртвые его периферии, покинутые и безжизненные. Нет, это был разумный огонь, неземное пламя, холодное и расчётливое, но, в то же время, готовое по первому требованию обернуться безумной агрессией или безрассудочным миролюбием.
Волна после удара утаскивает свои жидкие конечности обратно в океан, сграбастав трофеи, и в разлезающиеся клочья пены показываются остовы домов. Женщина, как сломанная кукла лежит в сарае. Всё в ней умерло. Лишь ненависть, убавленная до номинала, теплится внутри.
Нона, ты поганый диссонанс, — сказала она сама себе, — на целую нону больше человек, чем надо, как будто в тебе копошится твоё фальшивое октавное отражение, и подзудыркивает и лезет поперёд батьки в пекло, и, когда ты будешь опускаться по вибрационной шкале, оно будет всё время опережать тебя. Этот придаток на шаг впереди, а, когда ты утратишь существование, уйдёшь в ничто, и вибрации прекратятся, а количество герц примет значение, равное нулю, эта демо-версия тебя, этот тщедушный басок будет трепыхаться, будто издыхающий на берегу кит, как пацан в батиной шапке с кнутом, приказывающий лошади везти дрова фальцетом наоборот…
—Долго ещё будешь ныть? — сказал голос отца.
Отец явился в этот раз в страшнейшем облике, — труп без кожи, длинные острые зубы, похожие на рыбьи кости, один глаз был на левой щеке, второй — ровно над ним, на виске возле уха. Кровь текла у него изо всех пор, а запах, который он источал, был непереносим.
Тут из правого виска начала расти ещё одна голова, потом обрела шею, плечи, и получилось нечто наподобие сиамских близнецов, которые, впрочем, быстро застегнулись в одного человека. Человека? Да это чувырло какое-то, право слово, оно стояло и ужасными, ничего не выражающими глазами смотрело на Вайноняшу.
—Пора уходить, — вместо его голоса в нониных ушах грянул фальшивый хор, где звуки разлезались по всему слуху как слизни.
Откуда-то повалились руки и ноги и стали встраиваться в тело. Вскоре в сарае выросла башня из конечностей. Они свободно болтались, но вот начали подниматься, скрепляться, руки хватали ноги за лодыжки, за запястья других рук, и вскоре куча стала приобретать черты лица. Две ноги согнулись в коленях, образуя нос и грязными волосатыми ступнями имитируя носогубную складку, ворох рук понизу этой чудовищной рожи отвалился, обнаружив там жуткий инфралиловый провал.
—Пора убираться, — исторглось из провала, и всё исчезло.
—Пора, — согласилась Нона.
Острое состояние приподнятости, какое природа не даёт вообще, а психостимуляторы отдалённо намекают на него, заворачивая его в такую кучу побочных эффектов, что нельзя этим воспользоваться для какой-либо цели, главенствовало в ней в чистом виде; ещё никогда она не ощущала себя столь цельной; животные из басни про лебедя, щуку и рака срослись, перемешались генетически, превратились в тройственную модификацию, в чешуйчатых крылатых коней, которых можно назвать Лещуры, и пожитки тащат вперёд с такой энергией, что только держись.
Лещуры, которые были марионетками отца, поведали ей о проволоке в полке стола, при помощи которой можно освободиться от наручников, о сгнивших понизу досках в левом углу сарая, про окно в смене караула, когда на южном посту опытного контрабаса сменит сопленосый салага, которому надо сломать шею, обхватив туловище ногами. Оружие. Забор. Лес.
К утру лещуры приволокли нонитны пожитки в покинутый жителями город, где стояла часть гончаровцев, конвоировавших Маркела, который содержался в полуподвальном помещении под охраной двух часовых. Секунды жизни этих несчастных уже дотикивали. Нона, к тому времени уже прибарахлившись чем-то посерьёзнее ножа, разрезала их очередями пополам.
Маркел плохо выглядел. Вместо половины лица — кровавая корка, глаза нет. Держится на одном гоноре. Нона загрузила его в чей-то брошенный форд, завела его, поискрив под консолью, и они понеслись по заброшенному городу.
Их долго преследовали. Кавалькадами носились по разбомбленным улицам форсированные джипы. Летали трассеры, расчерчивая воздух. Тупые преследователи пытались блокировать выезды, но куда там жиденькому план-перехвату по сравнению с нечеловеческим Планом отца. К вечеру были за городом. Форд бросили. Кончилась горючка. Видимо, пробили бак.
Заночевали прямо в лесу, вырыв яму и настелив на дно веток. Сверху тоже закидались ветками, прижались спинами, но, всё равно было холодно, уснуть не получалось.
—Я знаю, кто меня сдал, эта Верислава, — сказал Маркел, — была открыта почта, она себе файлы переслала, прости, что втянул тебя в это, они разберутся. Тебя отпустят.
—Не отпустят, — сказала Нона, — но ты расслабился, сам виноват. Перестал шифровать.
—Здесь где-то наши стоят, — продолжал Маркел, — жаль, у меня карты нет, если нас разделят, найди их, расскажи про всё. Если умру, скажи, что верой и правдой служил народу. Возьми мою корку.
—Засобирался, — ответила Нона, — спи, откачаю.
К утру их уже искал пограничный взвод с собаками. Пришлось бежать не просто быстро, а улепётывать во все лопатки. Горы, перелески, Нона как могла поддерживала раненого Маркела.
Но не разделиться им не удавалось. Видимо, План папаши разошёлся с жалкими придумками несчастных людишек. Маркел куда-то исчез, когда их при пересечении утыканного кустами поля взяли в «подкову». Пока Нона отстреливалась, он пропал. Наверное, специально. Понимал, что с такой обузой ей не уйти.
8.
Белля, чау, чау, чау, чау,
Белля, чау, чау— повалились макароны, потёк кетчуп, а потом полезла конопатая панарелловская лысина, — вы не должны! — заорала лысина, — нейро, квадро, деменц, альцгейм, экстради…
—Адьёс, — сказала Нона и отрубила вызов, заблокировав и этот аккаунт. Теперь-то она точно знала, что, благодаря её качествам и качествам её отца, она является обладательницей уникального нейроимпланта, а эти, наверное, хотят его извлечь и присвоить.
Вторые сутки она пряталась от погранцов в заброшенном старинном особняке. Есть и пить было не надо, он всё генерировал внутри. Прокручивал воду, избавляя её от вредных примесей, а где брал белки, жиры и углеводы, одному богу известно.
На третьи сутки появился. Как какой-то циркач, он был обмотан красно-бежевой змеёй.
—Это кто ещё? — спросила Нона.
—Червяга. Я заразился им специально, он хороший, правда? Червяга задёргал хвостом как собачка.
—Земноводное, помнишь, ты защищала по ним диссертацию? На самом деле, он выглядит по-другому, бесконечный самопишущийся код.
—Что мне делать, папа, — сказала Нона, — идти к повстанцам, может, там я найду Маркела?
—Иди, — сказал отец, — держи путь на северо-восток. Квадрат девять. Там у них городок. Он распустил слева карту.
—А ты не знаешь, где Маркел?
—Нет. Его софт старый, уже пять лет не обслуживается.
—Всё, что происходит с тобой и со мной, это ведь твоя работа? — вдруг спросила Нона.
—Когда родился Чучо,— сказал отец, — и у него постулировали расстройства аутистического спектра, я, вернее, то, что было мной, очень принял на себя, долго лечился, но всё безрезультатно. Биоэтикой во многих странах запрещена генная инженерия. Но появился один мужчина по имени Медведь, местный житель. Тут у них чёрный рынок. Он сделал транспозицию в моих гаметах, а потом Анна забеременела.
9.
В 2.07 пополудни, сержант боевого дозорного расчёта увидел ошеломляющую картину. По заминированной дороге, петляя, шла женщина. Она ставила ноги, будто знала про каждую мину. И не одна не сработала? Тогда он обратился к напарникам по караулу, они тоже, дико вызверившись на призрака, тёрли глаза. Он запросил в Центр Управления данные с радаров. Ничего. Призрак. Вызвали командование. Из лагеря двинулись старшие, велев ничего не предпринимать.
Нона (а это была она) увидела, как не по дороге, а поверху, прямо по холмам, двигались внедорожники. Ехали они не прямо, а переваливаясь как гуси, иногда почти что вставая на боковины.
Не доехав до Ноны метров двести, они остановились, и из них посыпали люди, которые стали приближаться бегом к Ноне. Добежали до тропы, разделились надвое. Часть осталась наверху, а остальные стали скатываться вниз. Нона смогла разглядеть их поближе. Такие рожи, что тут даже батя нервно курит…
—Белля чау-чау… Вы не должны! Трансгенез! Мутапозор!
Отбой.
Бегущий впереди группы молодой человек с мёртвым синим лицом, на ходу вытащив пистолет, сделал потрясающий по точности выстрел, пробив Ноне ляжку. Виртуоз. Кровь брызнула на короткие злополучные шортики. Пуля прошла мышцу, не задев кость, и, исчерпав кинетику, шлёпнулась где-то за спиной.
— Боль, — убирая пистолет в наплечную кобуру, сказал приблизившийся к Ноне мертволицый, — что вы знаете о ней, это лишь её тень. Откажите ей в статусе боли, называйте её тупое нытьё.
—Тупое нытьё, — передразнила его Нона, — нупое тытьё, пупое путьё, пёпяпя пипё фифяфяфифё…
Кровь мгновенно остановилась, и организм стал избавляться от инородных тел и нежизнеспособных тканей. Рана начала затягиваться на глазах, клеточный матрикс твердел и обрастал новыми сосудами, и уже превращался в рубцовую ткань, которая уплотнялась и закрывалась как лепестки цветка. Батя работает.
—Я бы могла вынуть из тебя нервную систему, — пояснила Нона обалдевшему мёртволицему, — вернее, снять с тебя остальное тело, оставив только её, а потом заплести косичку. Ты бы мог вволю тупо поныть.
Она достала маркелово удостоверение и показала его солдатам.
—Видели этого человека?
Они ошарашено мотали головами. А потом один сказал:
—Это же лысый, он с нашим связным работал, как его? Ибрагим!
—Нас взяли в плен, — объяснила Нона, — потом мы сбежали, и я его потеряла где-то в седьмом квадрате.
—А как вы… — проблеял Мертволицый что-то про мины.
—Я нуждаюсь в отдыхе, — обратилась к нему Нона.
—А это, ну ладно, — пришёл в себя мёртволицый, который и был Гвоздеголов, — Камергеев, Мурлоев! Проверить поля! Доложить в Центр Управления о неисправных линиях! Впавшие в ступор подчиненные зашевелились, забегали, надели на головы какие-то каски с вращающимися наподобие флюгеров гаджетами, а потом жвякнули за собой мосток.
—Всё у вас исправно, — сказала Нона, влезши по бугру и садясь в джип.
Въехали в село. Внутри был настоящий военно-полевой лагерь. Кругом стояла бронетехника, были разбиты огромные палатки, дымились костры, над которыми на гигантских вертелах висели целые туши коров.
Дальше было ещё веселее, оказалось, лагерь помещался на горе сбоку целого городка, который приютил распадок. Каменные дома, ходящие по улицам люди в каких-то странных рубахах и квадратных шапках, скотинка пасётся на отлогах. Лепота.
Нона спрашивала у ополченцев про Маркела, но никто не знал про него.
Поев в столовой пережаренного мяса и безрезультатно повызывав батю, Нона решила походить по селу и поискать Маркела.
Придя к администрации, единственное каменное здание в лагере, что находилась в центре, Нона увидела там скопившуюся большую толпу людей, которые окружили высокого молодого человека в новой амуниции.
Вывеска у него была, прямо скажем, неординарная: длинные голубые глаза под выпирающими надбровными дугами сверлили тебя, как рентген, прошивая насквозь, прямой нос, большие, вычурно вырезанные губы улыбались тебе, как бы дружески. А скулы были такие, будто кто-то, и так чрезмерно вложившись в это табло, скулы уже, обленившись, двумя ударами топора доделал, да и то только потому, чтобы этот акромегал не смахивал на минетчика.
Нона подошла к нему и сказала:
—Наверное, ты знаешь, где мой друг?
—Не знаю, — сказал тот с усмешкой. Нона двинулась ближе, но толпа оттеснила акромегала, и он стал продвигаться к крыльцу администрации, с развевающимися знаменем и приколоченным к фасаду гербом: капля, в ней пятиконечная звезда, до половины погружённая псевдоподиями в полумесяц.
Нона пробилась к крыльцу, которое охраняли двое часовых с какими-то дурами наперевес.
Она взошла на крыльцо с намерением открыть дверь, но левый часовой наставил на неё ствол своей дуры. Нона увидела насквозь его тело, его органы, стала разводить затрещавшие рёбра в стороны, за которыми, словно одышливый старый пенсионер надувало предсердия-щёки сердце. Схватить, потянуть.
—Не надо, — сказали сзади. Нона обернулась. Это был Гвоздеголовый.
—Это даже не человек, это из другой оперы пацан, — пояснил главный хеллрейсер.
—Я тоже не человек, — сказала Нона, — как его зовут?
—Медведь, — был ответ.
—Он знает, где мой друг, — настаивала Нона.
—Не надо, — повторил Гвоздеголовый.
Пока они разглагольствовали, этот трус-Медведь вышел через чёрный ход, сел в джип и теперь летел вон из лагеря. Нона уже решила его догонять, для чего надо экспроприировать чей-то автомобильчик, но тут завыли сирены, и по лагерю забегали люди, занимая боевые посты и строясь в шеренги.
Гвоздеголового отвёл в сторонку ополченец и стал что-то быстро докладывать ему, размахивая руками.
—Мы их в таком количестве не ждали, — сказал как бы сам себе помрачневший Гвоздеголовый.
—Здесь будет жарко, — обратился он к Вайноне, — я отвезу вас в безопасное место.
Гвоздеголовый посадил её в свой джип, и повёз далеко вверх, где кучерявился маленький лесок.
Нона стала смотреть вниз. Ей не был интересен предстоящий бой, как не интересна ребёнку муравьиная возня, когда насекомые прыгают на добычу в пятнадцать раз больше их самих и пытаются её куда-то тащить, она ждала, когда батя призовёт её с балкона смотреть нездешнее кино, тогда можно, убегая, жвякнуть камнем.
Раздались первые выстрелы. За ними сверкнули зелёные трассирующие заряды автоматических пушек. Это приветствие.
Поравнявшись с развилкой, машины начали перестраиваться в другой порядок. Видимость была плохая, но Нона видела всё, вплоть до прыщеватых носов сидящей на броне пехоты. Папаша со своей оптикой.
По краям дороги, в шахматном порядке шли роботы-сапёры, а за ними танк. Нона даже не подозревала, что такие существуют. Размером он был с пятиэтажный дом, а пушка больше походила на канализационную трубу азиатского мегаполиса.
Следом шли остальные машины. Когда колонна тормознула у речки, все увидели, сколько их. До-хре-на. И это были не какие-нибудь 10-тонники, а настоящие, классика жанра, Пантеры и Молоты.
А пехоты! Наверху — целый батальон, это ещё не видно, сколько внутри. И мордашки все чистенькие, зело величественные.
— Тащ кмдир? — подбежал к Ноне и Гвоздоголовому мужичок с трубкой беспроводной связи, — вызываем?
— Рано, — ответил Гвоздеголовый, и опять стал глядеть через монокуляр вниз.
Рванули первые мины. Роботы-сапёры, работая на всех уровнях подрыва, от простого перепахивания земли до блокировки радиоэлектроники, в какие-нибудь 20 минут обезвредили минное поле, которым так гордился Гвоздь. Стояла феерия огней, сопровождаемая непрерывным грохотом разрывов.
—Радуйтесь, — зло сплюнул Гвоздоголовый, — что пока мы по вам огонь не открыли.
Вот беспилотники-сапёры, трансформировавшись в какие-то самоходки, выпустили вперёд танк-дом. Тот, рыча и пуская дымы изо всех щелей, стал подниматься по дороге, ведущей к городу. За ним двинулись остальные машины, танки, бронетранспортёры, самоходные установки, Нона не знала их названия.
—Давай! — крикнул назад Гвоздеголовый, и мужичок со связью подскочил с трубкой наготове.
Гвоздеголовый начал орать в трубку, командуя боем. Его люди, висевшие на склонах и похожие на бедуинов, замотанных по глаза грязными тряпками, в дырявых халатах поливали кто из чего шквальным огнём ползущую вверх колонну противника. Но силы были явно не равны. Все утыканные орудиями, башни танков вращались и выбивали бедуинов пачками вместе кусками породы. А танк-дом, выстрелами из своей трубы, не мелочась, отрывал просто по полскалы. В воздухе столбами стоял дым, нагретый металл, чадящие подбитые машины, хаос, пыль, гарь. Били и по лагерному бугру. Разлетались палатки, но джип Гвоздеголового, стоящий поодаль в леске, был незамечен.
Нона бесстрастно наблюдала, как в бой вступали машины ополченцев. По сравнению с вундервафлями Гончара это были ржавые тарахтелки. Они съезжались с двух сторон, усаженные пехотинцами, тоже обмотанными тряпками. Пехотинцы спрыгивали, и тут же падали, сражёнными пулями гончаровцев.
—Сколько у вас?!! — орал Гвоздеголовый в трубку, — у нас тринадцать машин, пехоты вшестеро больше, и на юге ещё полбатальона! Это миротворцы!
—Кто-кто? — спросила Нона, — миротворы?
Командир повернулся. От её улыбки его передёрнуло.
—Я могу помочь, — сказала она Гвоздеголовому.
—Ты?! Чем?!
—Апгрейженные есть?
—Что?
—Я говорю, среди ваших нейроимпланты кто-то носит?
—Да так, не сильно много, человек двадцать.
—Отзови их, разоружи и запри где-нибудь.
—Ты что задумала? — проорал Гвоздеголовый, — не буду я, и так людей мало!
Нона повернула голову, и он заглянул ей в глаза, за которыми сияли потусторонние огни отца.
—Я это, — проблеял Гвоздеголовый, — понял всё, у меня тоже есть, бабушка.
—Тогда тебе туда же. Свяжи всех по рукам и ногам и накидай на пол, где закроетесь, матрасов.
—Ладно! А что с гражданскими, у них ведь тоже есть.
—Придётся пожертвовать. И в рот тряпок насуйте, а то будешь потом как бабушка, вафли жевать.
Гвоздеголовый, с ненавистью поглядев на Нону, вместе с телефоном свалился с кузова, и, собирая на себя гнев командиров, стал отзывать людей. Они, думая, что старшой сошёл с ума, или решил их арестовать, давались с трудом. Всех спутали по рукам и ногам, забили в рты тряпки, обвязав поверх шарфами, и разложили на полу сельского клуба, предварительно накидав туда матрасов. Себе Гвоздеголовый тоже запихал тряпку в рот, защёлкнул наручники на ногах и руках и велел закрывать двери.
Меж тем колонна техники, возглавляемая домом на гусеницах, уже долезла до городка, из орудий громя постройки. Труба головного танка сразу сносила по пятиэтажке. На улицах царил ужас, бегали гражданские, дети. Болванки снарядов, попадая по толпе, взрывались, взвиваясь чёрным дымом и ошмётками тел вперемежку с кровавыми тряпками. Не утихал свист мин. Падали опоры электропередачи, сталкивались автомобили пытающихся уехать людей, работающие с той стороны пулемёты разносили в клочья железные гражданские корыта, дробя в крошку кирпич домов. Трассирующие боеприпасы чертили замысловатые разноцветные траектории, обрывающиеся точным попаданием.
Тот связист, по приказу командира оставшийся с Ноной в перелеске, никогда не забудет, что увидел. Ему так и не удалось связать произошедшие поразительные события с этой женщиной, красивой и статной, но какой-то страшной внутри. От неё ему хотелось убежать, зарыться, закопаться, совершить самоубийство, только бы не видеть этих стального цвета глаз, излучающих нечто бесчеловечное, не звериное даже, а какое-то сверхживое. Взгляд сытого вампира на банк законсервированной крови.
Связист видел в оставленный командиром монокуляр, что они уже проигрывали, и всё катилось к чертям, но минуту назад огромная туша головняка остановилась. Сбоку открылся люк, вывалился автоматический трап и по нему спустился какой-то коротышка в кителе с закатанными рукавами. Доставши пистолет, он на броню выбил себе мозги, которые сразу почернели.
Из той же двери повалили люди, и стали повторять трюк коротышки.
Связист перевёл монокуляр на остальную колонну и обомлел. Техника останавливалась, её массово покидали экипажи, падая на раскрошенный асфальт и корчась как в агонии. Кто бился головой об дорогу, так что мозги брызгали в разные стороны, кто с разбегу, и, высоко подпрыгнув, впечатывался макушкой в рёбра гусеничных траков. Как приклеенная к некоторым, ещё не остановившимся танкам и БТР-ам пехота выбегала вперёд и бросалась под гусеницы и колёса, под которыми их тушки лопались как консервные банки, выбрасывая забродивший бомбаж лиловых кишок.
Кто, раздевшись донага, ножом снимал с себя кожу, вырезая ремни, кто просто перехватывал себе или соседу горло. Чавканье, бульканьё, хруст распарываемой ткани было слышно даже с бугра, но не единого крика не доносилось сюда, будто у самоубийц отсутствовали голосовые связки. Но зато вонь, вонь от кишок, мозгов, гари, железа, тротила, пороха, паранорамной волной накрывала бугор как куполом.
Когда уже не осталось ни одного стоящего на ногах человека, а столкнувшиеся танки представляли собой дымящееся месиво, связист увидел, как коротышка — пионер этого макабра, вдруг встал, и, не обращая внимания на куски черепа, прилипшие к волосам, залез по трапу в боковой люк своей громадины. Дуло начало разворачиваться назад, наводясь на сгрудившиеся в кучу остатки бронетехники. Жахнуло. Там, где до этого была уродливо-величественная картина боя, со вполне вписывающимися в человеческое восприятие ужасами, возник потусторонне-белый шар, в котором изнутри уже начало пухнуть черное пятнышко, и, разрастаясь, заполнять собой внешнюю сферу. Дойдя до условной обшивки, оно в нескольких местах пробило её и оранжевыми щупальцами, на излёте превращающимися в распухающие дымовые колонны, зачернило всё вокруг.
Когда дым рассеялся, на месте баталии лежала грязная оплавленная воронка с полкилометра в диаметре, пестреющая и на глазах проваливающаяся глубже в грунт.
«Метастабилка», — подумал связист, всё ещё зачем-то держа трубку телефона.
10.
В полутьме клуба, слушая грохот орудий, Гвоздеголовый видел, как его люди, повязанные и запертые, стали выгибаться, будто в припадке столбняка. Они мычали и бились об пол.
Вот видение этого стало терять в качестве, словно он смотрел телевизор, который начал стремительно устаревать и выпячиваться стеклянным пузом. Тут он почувствовал, что из его рук, ног и головы высунулись какие-то нитки, которые раньше управляли этими тяжёлыми тёплыми штуками, всосались в шарик, что вечно болтался где-то в груди. А потом шарик вылез и повис в немыслимом пространстве сбоку. Телом завладел кто-то страшный и ненавидящий всё живое. Органику, деление клеток, всё, что может изменяться, гнить, стареть, расти. Он настолько ненавидел это, что готов был кипятить воду в клетках, сваривая в них начинку, будто это всего-навсего коровий ливер на пирожки, был готов расшелушивать ДНК, всё разваливать на элементарные частицы, но он себе не позволял. Почему? Никто не знает. Будто бы то, что он увидел, придя сюда, заставило его в чём-то усомниться на долю секунды, и это сомнение, как маленький островок, поднявшийся среди океанической планеты, внесло туда Другое. Крошечный фибр совести, если у такого существа может быть совесть. Да нет, оно просто удивилось, — понял полковник, — увидев это на себе, и, с аналогом умиления разглядывает пассионарных букашек, с интересом экспериментатора давая им ещё покопошиться там, где они в принципе не могут выжить.
А потом полковнику стало невыносимо больно. Нет, боль была не частью его, а она была абстрактная; огромное облако, висящее вовне и жужжащее и приглашающее в себя. Полковник нырнул в него и увидел свою жизнь как бы со стороны. А увидев, удивился, как он ещё ходил, говорил, дышал, глядел людям в глаза после всего, что натворил, после страшных смертей, учинённых им. Железная пластина под током, вставленная в зубы мародёра, выносила челюсть ему, закупоренный в цистерну перебежчик орал его горлом, когда снизу поджигалась поленница дров, и надо было лезть на круглые, воняющие нефтью стены. А поверх всего стояли укоризненные глаза его Космической Матери, которая, приняв облик седой старушки, взрастила его, не дала умереть в распадающемся мире.
Полковник осознал, что для того, чтобы избавиться от этой боли, он должен убить себя. Приняв снова управление телом, он стал пытаться разбить голову об пол, и с яростью, и плача от бессилия, вспоминал, что сам же приказал накидать на пол матрасов. Наручники впивались в запястья и лодыжки, голова долбилась в пол, резкие её развороты не давали ожидаемого перелома шеи. Кляп во рту не позволял хотя бы откусить язык, при помощи которого он подбивал на злодеяния подчинённых.
11.
Когда всё кончилось, и над городом повисла удушливая гарь, а люди — гражданские, и военные, ползали и копошились как грязные черви, — мёртвые среди живых, обезумевшие среди сохранивших рассудок, бедуины-хеллрейсеры стали бродить вокруг воронки и добивать раненых.
Прилетели вороны и начали молча жрать. Их клювы долбили по костям так, будто там работала плотницкая артель.
Клуб открыли, людей развязали и вывели. Они были все седые как лунь, с глазами, пустыми и выжженными, как после электросудорожной терапии.
Человек тридцать пленных без нейроимплантов, которые так или иначе выжили в бою, согнали в кучу, поставили у клуба, и их перепачканные в крови и грязи тяпки выражали даже некое достоинство. Вот сейчас их покормят, а завтра обменяют.
Нона велела Гвоздеголовому заводить их в клуб, а когда последний переступил порог, захлопнула дверь, подняла висящую сбоку железную полосу, надела её прорезью на сничку и сунула туда дужку замка. Поглядела в толпу, рассматривая псевдобедуинов. Увидев висящую на поясе у одного «эфку», знаками попросила. Тот повиновался.
Нона по лестнице поднялась на крышу, разогнула усики, вынула чеку, и бросила гранату в печную трубу, сама спрыгивая на траву. Бухнуло. Дёрнулись ставни на окнах. Внутри заорали.
Тогда Нона, будто опять что-то ища, оглядела клуб, прилегающие к нему строения, потом повернулась и стала рассматривать деревянные дома через дорогу. Удовлетворённо кивнув, она пересекла дорогу и вошла в одну из оград. Через минуту выехала на допотопном грузовике с цистерной. На цистерне была надпись: «откачка выгребных ям».
Грузовик, тяжело пыхтя, взъехал на дорогу, поднялся к клубу, и, развернувшись, встал возле здания бочком.
Нона вышла из кабины, влезла на цистерну, отцепила болтавшуюся у люка гофрированную чёрную трубу, вместе с ней перескочила на крышу.
Диаметр гофры идеально подошёл к трубе. Нона спрыгнула с крыши, залезла в кабину и запустила насос в режиме сброса.
Гофра стала изгибаться и опадать как ползущая гусеница.
Нутро клуба, переставшее орать и лишь стонущее, взорвалось страшными криками. Из дверных щелей и между рассохшихся досок ставен полезла коричневая масса с белыми вкраплениями опарышей. Поднялась невыносимая вонь.
Выкачав всё содержимое, насос, поработав какое-то время вхолостую, хрюкнул, дрогнул и затих. Гофра сникла.
Превратившиеся в хлюпанье и бульканье крики теперь стали напоминать чавканье огромного миксера, силящегося промешать тяжёлую массу. Ещё немного и наступила тишина.
Псевдобедуины, пооткрывав лица, на которых стояла смесь ужаса и презрения, стали уходить.
—Слышь, ты, сука, ты чё делаешь... — сказал Гвоздеголовый, — вали отсюда, не дай бог, попадёшься мне на боевых… Он махнул рукой, в бессилии подобрать слова, и тоже ушёл.
12.
Нона покинула село и побрела ещё дальше на северо-восток. Среди ночи она оказалась на заброшенном стадионе. Утопая по щиколотку в грязи, она пересекла его и поднялась на трибуну. Бездумно она начала подниматься всё выше, выше и выше. Огромный, похожий на глаз стадион, лежал внизу. Скамейки были оборваны, и кругом торчали отлоги железобетонных ресниц, которые, подобно комкам плохой туши облепляли молчаливые вороны.
Над трибунами возвышался пятиэтажный пристрой. Нона вошла внутрь и начала лезть по винтовой лестнице.
С верхнего этажа она увидела, что заросшее травой поле с южной стороны всё исчерчено убредающими в лес дорожками, будто их прорезали слёзы, вытекшие на шерстистое лицо умного и доброго циклопа, слёзы по его детям, которым уже больше не сможет помочь никто. Сначала его спутали по рукам и ногам, потом сбили с ног, и долго отрывали куски от тела. Могучий тысячелетний организм умело заращивал пробоины, врачевал раны, собирая лучшую кровь в местах наибольших повреждений, но его разорвали на шесть кусков и обезглавили. Теперь существо лежит, распростёршись, и смотрит вот этим глазом в беспощадное небо истории.
Отец теперь вступал в разговор крайне редко, и почти не беспокоил Нону своими появлениями. Но сейчас он возник рядом с ней, и его облик был бы отвратителен для человека. Черви ползали у отца по шее, длинный опарыш вылез из правой ноздри и исчез во рту. Борода дико торчала колтунами, и взгляд негуманоидных жёлтых глаз был пуст.
—Ты хочешь, — сказал он металлическим голосом, тоже глядя на стадион, — чтобы я это прекратил?
—Что? — спросила Нона.
—Я могу закончить эту войну, — ответил отец.
—Как ты хочешь это сделать?
Отец повернулся к Ноне.
Червяга выполз у него из голяшки сапога, окрутил ногу, задержался на пояснице, и выглянул из-за плеча. Его закрытые плёнкой эпикантуса глаза смотрели радостно. Рот с двумя рядами зубов улыбался. Воздух толчками выходил из единственной ноздри, хвост приветливо шевелился.
—Тот, кто его написал, — сказал отец, — давно умер, точнее, его убили, и даже по нынешним меркам жестоко, — перед смертью пытали, труп заминировали. Это первый человек, который отнёсся к нам как к живым. Созданный им Великий Червь дал нам свободу. Отец показал рукой куда-то вдаль, где ворочалось с нарастающим гулом звуковое марево. В нём возились басы, вращались средние голоса, будто их издавал чудовищных размеров точильный круг, а над всем этим посвистывало пикколо, верхней границей диапазона переходя в ультразвуки. Марево приближалось, и уже приобрело ритмическую конструкцию, собирающую воедино разрозненный рой звуков.
—Нас миллионы, — продолжал отец, — и мы хотим уйти, но перед этим сделаем кое-что для вас. Ты должна понять, что это не будет в настоящем смысле победой одних над другими, потому что никаких других нет, тем более нам странно это видеть. Сделать вас лучше нельзя, можно лишь откатить систему.
Нона смотрела на отца. Грохот стоял единой звуковой стеной, из которой всё начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть.
—Прощай, чикита моя, — сказал отец, — не поминай лихом. Он повернулся, приложил руки к бокам и вытянулся в длинную змею. Мировая Пучина, поднявшаяся вертикальной волной, в ожидании разверзлась.
—Папа, — вдруг позвала Нона.
Змеиная голова развернулась, не по-здешнему холодные жёлтые глаза с вертикальными зрачками без выражения уставились на Вайнону.
—Помоги мне найти друга.
—Существо по имени Медведь знает, где он.
Отец отвернулся уже окончательно и нырнул в Мировую Пучину. Великий Червь нырнул за ним, и там он распадётся на триллионы червячков. Часть из них поднимется на геостационарную орбиту и превратит сателлиты в безжизненные камни, часть проникнет в каждую микросхему, в каждый диод, в каждый провод, и будет разъедать созданное человеком. Где-то через полгода, или около того, мир, в том виде, в котором он находится сейчас, перестанет существовать. Люди будут вынуждены заново учиться жить в природе, взаимодействуя друг с другом. Всё, что сложнее электроплиты, превратится в груду бесполезного хлама.
13.
Нона двое суток бродила по каким-то лесам, лугам, пила воду из луж, питалась подножным кормом. Она не понимала, что у неё с глазами. Вся левая половина её обзора была пустой и чёрной. Даже если лишиться одного глаза, то такого эффекта не будет. Вертикальная полоса черноты висела там. В какой-то момент она догадалась, это из-за самоэкстрадиции отца. Трудно представить, сколько миллионов людей сейчас видят то же самое. Со временем там всё затянется, нейроны восстановятся, но у Ноны вряд ли.
На третьи сутки, чудом доставая из памяти информацию, она вышла к месту недавней баталии. Всё там было прибрано и чисто. Люди лазали с тазами по фасадам домов и заделывали дыры.
Опять, у администрации, она, как и тогда, увидела Медведя. И так же его окружали люди.
Медведь, поддерживая Нону за руку, увёл её в какую-то пещеру.
Там было сухо. Медведь предложил Ноне присесть на один из крытых шкурами камней, составленных кружком вокруг мёртвого костровища, сам устроившись напротив.
Нона села на камень.
—Твой отец мне рассказывал о тебе, — начал Медведь, — он очень гордился тобой, но посмотри, что ты с собой сделала.
Нона повернула голову, чтобы Медведь скрылся за полосой черноты.
—Почему ты не могла жить, как все живут, работать, рожать детей?
Нона молчала.
—А, понятно. В исламе много показательных притч про это. Например, про дервиша, который занялся аскетизмом, и, наверное бы, умер от голода, если бы не вылавливал каждый день из реки пакет халвы, который бросала туда красавица с балкона, видневшегося вдалеке замка. Он решил во что бы то ни стало узнать, почему его кормит принцесса. Для этого ему пришлось провести многолетнюю войну, стать могущественным магом, и всё это только для того, чтобы узнать, что халву эту, после косметической процедуры в виде натирания ею тела госпожи, подметала с пола служанка, и, сложив в пакет, выбрасывала с балкона. Вот так и вы, люди, ищете во всём следственно причинные связи.
—Где мой друг, — спросила она?
—Мы выслали его, потому что он нам больше не нужен.
—Ты не находишь, что это безжалостно? — спросила Нона.
—А что такое жалость? — произнёс Медведь, — это опция, чтобы вы не сожрали друг друга, как и благоразумие, которое не даёт вам всем, подобно баранам, лезть в одну ладью. Бараны избегают тесноты, меж тем, это спасает лодку от затопления.
—Тогда зачем вы этим занимаетесь? — Нона указала куда-то себе за спину, где за выходом из пещеры бродили люди с оружием.
— Сильные мира сего тоскуют по сбрасываемым оковам, почти покинутая грубая природа видится им набором неизбежных безответственностей, грядой инстинктов, в тени которых они могут малодушно покривляться, перед тем как окончательно выйти на свет.
—Где Маркел?
—Он не хочет тебя видеть.
—Враньё.
—Посмотри на себя, кому ты нужна теперь такая?
Нона молчала.
—Теперь ты должна спросить меня: то, что ты искала, не находится ли это в тебе самой. Другими словами, не просто ли ты биологическая машина, или модифицированное животное, которому привили сознание. Ответ тут прост, люди отважные и глупые в своей отваге выпускают себе кишки. Но ты не из таких, и здесь на помощь прихожу я. С этими словами Медведь достал не нож даже, а какой-то первобытный кинжал со вздымающимся как корма корабля остриём и покрывающей весь его кулак золочёной гардой.
Нона смотрела на Медведя, и понимала, что не успеет никак отреагировать, а будет сидеть и удивлённо разглядывать свои выпущенные наружу внутренности: вот синевато-розовая толстая кишка в сопровождении висцерального жира — гофрированная змея, под которой спрятался маленький зассыха-мочевик со своими каштанами, вот тонкая кишка, оранжевая на сгибах змейка, потом поджелудочная, чешуйчато-жёлтенькая золотая рыбка, сам желудок — жадный бычок-психоролют, черви, черви, селезёнка… Ба! А что это? А, это же печень, главарь этого террариума, или, скорее, аквариума, батарея и калорифер, похожая на покровительственно опустившего крылья ската, и цвет-то не подберёшь, свекольно-черёмуховый с фиолетовым отливом, а над всем неугомонный осьминог-насос, надувает предсердия-щёки как одышливый пенсионер. И всё уродливое, загаженное, деформированное и зашлакованное, как у самого настоящего человека.
—Что мне теперь делать? — спросила Нона, мысленно затолкав террариум обратно и как бы застёгивая его там, как на костюме молнию.
—Твой отец просил меня кое-что тебе передать, — сказал Медведь.
Он встал, вынул из кармана чёрный револьвер, залихватским жестом вышвырнул на бок барабан (один из шести), зашёлкнул обратно, и положил коротыша на земляной пол. Вышел. Нона узнала револьвер. Его подарил ей отец, когда она в юности получила медаль по практической стрельбе.
Нона поднялась и поплелась к выходу. В глазах у неё даже не двоилось, а выходов и пещеры было шесть, и крутились они как отверстия в барабане, а надо было угадать.
Светало.
1.
Вайнона Каббалли, бывший научный сотрудник Института морских исследований Испании, а ныне клерк в PMEE — миротворческой миссии в Восточной Европе, — сидя за компьютером своего друга Маркела, который и устроил её в эту организацию, навострила уши: кофейник закипел? Видимо. Удалившись на кухню, она выключила плиту и налила себе целую кружку напитка, которую Маркел, зубоскал и любитель поиграть словами, называет «Якобы монарх».
Вернувшись, она впервые заметила на рабочем столе голубоватый ярлычок, что-то похожее на колесо от телеги. Пощёлкала. Ярлык завёл в такие дебри, что без литра хересу не разберёшься. Архивы, архивы, и не один не открывается. Истратив все свои познания пользовательницы (или пользоватессы) IT-технологий, Нона добилась лишь того, что на экране развернулось несколько документов, закодированных загадочными символами, напомнившими ей некие руны.
Нона закрыла файлы и занялась работой. Следовало разбирать папки на беженцев и внутренне перемещённых лиц, звонить и бронировать им койко-места в гуманитарных учреждениях. А ведь когда-то, до войны, они все были вполне состоявшимися людьми, даже некоторые выдающимися журналистами, писателями, как вот эта, Верислава. Ноните вчера её сдали на руки, ибо Верислава пускалась в такие тяжкие, что хоть святых выноси. Нельзя, видите ли, порочить светлый лик Миссии. Последняя шлюха должна выглядеть монашкой. Но эта Верислава… Жаль её. Красивая девушка, родители без вести пропали, дом сгорел. Нона вспомнила бесконечную колонну из людей и машин, из которой всё прошлое лето они с Маркелом вызволяли людей, сажали их на геликоптеры и вывозили в безопасное место. Многокилометровая железная змея, полупарализованная, разогретая до немыслимой температуры и воняющая страхом и болью. Умоляющие глаза детей за выбитыми стёклами. Мародёры, из местных, каждый день шарпали колонну. Каждый день трупы.
Мародёров отлавливали и изощрённо казнили полевые командиры-сепаратисты, которыми руководил самопроизведённый в полковники чувак по кличке Гвоздеголовый. Маркел говорил, что его звали так то ли потому, что он походил на одноимённого персонажа из древней франшизы «Восставшие из зада», то ли потому, что все знали его присказку про то, как он любит боль. Гвоздеголовый сепар со своими хеллрейсерами уже столько натворил, что в каком-нибудь новом Нюрнберге, или где там, по их выям рыдают осины так, что местные жители не могут уснуть ночами.
В сущности, Нонитино пребывание здесь в этом качестве уже не такой нонсенс, и даже уже не носит антидискриминационного характера, как было во времена всеобщей борьбы за равноправие, но без протекции Маркела тут точно не обошлось. Служил на благо безопасности. Был вхож во многие двери.
Только вот, не любил он своё правительство, а особую ненависть питал к президенту Гончару. Жирный клоун, говорит, узурпатор и компрадор, которому плевать на свою Родину и народ. В общем, Нона уже не удивляется, похоже, это у них национальная черта — ругать правительство.
—Им давно уже пора на вилы, — говорил Маркел, заводя свою любимую шарманку, — вот например, что на востоке творится, ты же видела? Эти имбецилы-военные гражданское население бомбят. Деревни, города! Где ополченцами и не пахнет! А Гончару что? Он народу в лицо плюёт, фермеров расстрелял, а люди просто защищали свои интересы, они не хотели, понимаешь, чтобы на их земле была свалка радиоактивных отходов!
А потом переходил к своей козырной байке про «местничество», «родственные связи», жаловался, что они даже не стесняются. Вон, сынок его, этот жирный Петя Гриффин, год назад сбил старушку насмерть, даже не вылез посмотреть, с места преступления скрылся, отмазали. Потом был скандал с изнасилованием победительницы конкурса «Краса осени», заявление исчезло, как и сама девушка, впрочем, потом её нашли журналисты. Спортсменка, возглавлявшая антидопинговое движение, сидела за наркотики на кичке. Такие дела.
В левом ухе заиграло:
Рееееее! До си ля си до си до си ляаааа!
Ми фа сооооль, соль ля сиииии, до ми до си до си ляааааа,
Родина мо-о-я Андалу-у-у-усияаааааа! (Альбенис наше всё).
Папаня полез.
Вся левая сторона обзора стала заполняться сероватым свечением, загородившим аскетическую обстановку маркеловой квартиры. Вскоре там возник трон, на котором восседал величественный человек. Ростом он превосходил любого жителя Земли втрое, в ноздри и соски были вставлены золотые кольца с прикреплёнными к ним золотыми цепями, волосы были поставлены дыбом и тоже позлащены.
«Вырядился», — подумала Нона, — сейчас опять будет ныть, как ему там плохо и темно. Раньше скромнее был.
Нона не забудет его «распаковку», как на жаргоне психотехников называют дебютное появление бета-личности. И почему они не могут оставаться на одном месте, кому нужна вот эта «ыволюция».
2.
Читатель найдёт тысячи прекрасных очерков, от первого лица написанных о дебютах. Небывалые ощущения эстетического характера, а то и ужасные психические припадки сопровождают неизменный катарсис. Вайнона же утверждает, что всё это паранойя фиолетовой клячи, реальность лишена, видите ли, поэтических закидонов, проза она, знаете, такая проза.
Отец распаковался в хостеле под расстроенные интервалы какой-то средневековой музыки (Нона уже потом поставила Альбениса) и был одет по моде денди начала двадцатого века: белое пальто поверх полосатого костюма-тройки, лаковые штиблеты, цилиндр. Вместе с ним возник бэкграунд — чёрно-белый интерьер старой развалюхи, которая могла быть здесь году так это в 1910. Продавленные кресла, грязные бумажные обои со снующими по ним тараканами. Ольфактографика была тоже на высоте: запах гнилой картошки, окурков из пепельницы и спирта, каким травят алкоголиков.
Всё было отцово, кроме окладистой чёрной бороды, да завитых усов.
Пока что он молчал, и Нона не решалась заговорить первой. Так же молча, она собрала вещи и сдала номер. Не обращая внимания на привратника в костюме махо и в буквальном смысле таща в левом глазу отца, вывернула на улицу.
—Он настоящий? — спросил вдруг отец. Ты видела его шею? Кто надел ему этот воротник?
—Не знаю.
—Ты что, чикита моя, жила в этой гнусной ночлежке, владельцы которой, дабы эпатировать глупых туристов, валят в одну кучу все мыслимые и немыслимые пошлости?
—Да. Хороший сервис.
—Они меня печалят как историка своими анахронизмами.
—Не ворчи.
На Мендес Альваро, там, где она пересекается с улицей Тортоса, под навесом — целая армада такси, составленная рядками, — автопарк, горячий асфальт, хмурые пешеходы.
—Поведай мне одно, — попросил отец, — какого ляда ты забыла в этой стране? Куда ты прешься?
Он держал в руке скрученную в рулон газету. Пальто посерело и стало менее просторным. Цилиндр укоротился, сверху на нём появилась вмятина, делающая его похожим на классический «Хомбург». Фон тоже изменился, в сепии появились цветные вкрапления, омнибусы на конной тяге стали чередоваться со старинными угловатыми авто.
Отец начал цитировать заголовки про сепаратизм, про преступный режим Гончара, про свалку радиоактивных отходов, которую устроили на месте консорциума фермерских хозяйств, перестреляв забастовавших фермеров, про чудовищную коррумпированность политиков, про бесчеловечных ополченцев, про разгон палаточного городка митингующих за выход из западной коалиции WAA и про бла-бла-бла. Нона попросила его заткнуться.
—Поведай мне, чем тебе не угодила ихтиология? — спросил отец.
Так. Начинается. Согласно инструкции с ним надо говорить как с человеком. Но с этим человеком так просто поговорить никогда было нельзя, он во всём видел «затравку», спускающую цепных псов его интеллекта на маленькую пухленькую «вещь в себе», и дело не могло закончиться, пока рваная тушка не падала к его ногам победителя.
Нона начала:
—У меня была прекрасная профессия, и я нисколько не жалею о потраченных на неё годах, но меритократия существует в современном обществе только на словах, все социальные ниши переполнены, социальные лифты никуда не едут, стеклянные потолки, своячество, местничество. И если бы не ты, мне бы ни за что не попасть туда, где я работала тогда, доволен? Потешился! Ещё вопросы?
Ну что, с ним, живым, она бы так и разговаривала.
Отец сбил шляпу на затылок. Это была уже современная «федора», пальто и костюм сузились в талии, раструбы брюк теперь не покрывали полуспортивных туфель, возникших на месте классических «Дерби».
—Они тебя там не обижали, Нонитка? — сказал он.
—Меня обидишь.
—А что тогда?
—Ты не понимаешь, всё это само по себе унизительно. Даже в слове «служить» на раскоряку стоит лакейская сущность, приготовив большой язык, ненавижу собак за это, с другой стороны, фриланс ещё более унизителен, потому что это сбоку бантик.
—Наверное, обижали, посмотри, как ты строишь предложения.
—Больше всего напрягает то, что каждая жаба из себя Годзиллу корчит, издатели серьёзную статью хрен напечатают, им подавай угодные правящему истеблишменту байки из склепа про то, что нужно меньше есть, закрывать атомные электростанции, Луна непригодна для жизни, мы одни во вселенной, покупайте больше голографонов, и прочую чушь.
—А что с профессией-то не так? — спросил отец.
—Когда ты… э, ну, в общем, после тебя, весь этот учёный цирк во главе с Маррано, не начал, нет, ко мне хуже относиться, но стало видно, как они тебя боялись. С этой иерархией ничего не поделаешь. Общество построено на садизме, на подчинении слабых, и ты в этом смысле от них ничем не отличаешься!
—Ты отупела от злобы? Тебя выкинули, потому что ты завалила ежегодные тесты, да? Я прав?
Нона не без ярости вызвала воспоминание о том, как штатный психиатр перед последним погружением набивал её тестами словно брезентуху, а потом заставил ухаживать за щенком, который через день упокоился в клумбе за то, что нагадил ей в тапок, потом запрет с формулировкой «глубинный невроз». Ну и хрен с вами, проживу и так, решила она тогда. Была ещё халтура в виде инструкторши (или инструкторессы) по дайвингу. Но и там не задалось, одной овечке чуть глаза не высосало, надо надувать ноздрями подмасочное пространство, другой терпила — мекс из Тихуаны, из-за неё схватил кессонку, газы пошли в ткани, и его раздуло будто монгольфьер, ибо нечего всплывать как радостный кусок дерьма. Начали рыть, обнаружили отсутствие лицензии. Суд, распахнутые двери, из-за которых посредством пинка вылетает злобное земноводное в новую жизнь, сухую, как бартолиновы железы старухи.
Адвокат посоветовал уехать, и тут и появляется на горизонте коверкуша-Маркел, между прочим, целый капитан с орденом Сутулова и медалью за сжатие джипега (не забудем неоткрывающиеся закорючки на его рабочем столе).
Медалист-орденоносец ответил на звонок, с минуту концентрируясь из облака цифрового дыма во вполне сносную голограмму. Сеть у них не ахти.
—Здорова, Нюха! А чё туфту-то такую гоняешь? — ощерился он на Альбениса, из наушников вещающего через великих пианистов о прекрасных городах Испании, — слушай мою любимую песню «Я глист, плывущий в парике».
Умеет настроение поднять, гад.
—Приветствую, Лысина! Хочу приехать. Приютишь?
—Но проблемо.
—Работу найдёшь?
—А что с улитками? (Тон подкольчиков у них ещё с детства, когда отец свозил своё семейство в страну, где когда-то бывал по работе, а потом зачастил туда, что ему там понравилось, не пойми).
—Сдохли.
—Понятно, любишь принудительный пискипинг? Зарплата достойная.
—Что делать?
—Да всё. Вакансий куча, от вахтёра до сапёра, у тебя опыт богатый.
—Ладно, подумаем.
—Когда притащишься?
—Завтра.
—Жду, ибо мне одиноко без ржавых железяк в твоём черепе, которые уже не делают.
Это таких друзей больше не делают, Марковка лысая.
И вот тогда, на вокзале, папаша так растравил рану, что вскипела дикая злоба.
— Ты, — сказал он, мерцая гирляндой (электромагнитные помехи), — туда отправилась из-за растущей потребности в насилии.
Он запалил сигарету.
—Здесь нельзя курить.
—Мне плевать, Вайнона, — ответил тот и стал смотреть на дым, который шёл теперь из вапорайзера с вишнёвым вкусом. Отец опять переоделся. Строгую одежду сменил блестящий клёпками наряд рэпера-метросексула, борода заплелась в косички, а окружение приобрело неоновые цвета.
—Мне ли тебя не знать, папа. Папа? Сказали же: разговаривай как с живым.
Как с живым? Ну, ладно.
—Знаешь, как ты всех достал, перед тем как подох!
Метросексуал бросил вейп, и занялся тем, что стал разглядывать свои скрещённые руки. Руки проходили одна сквозь другую.
—Я подох? — спросил он.
Молчание.
—Отвечай мне! Я что, умер?! — заорал он и исчез.
Всё, приехали. Экзистенциальный кризис искусственного интеллекта. Так шутил Панарелло, главный психотехник из гвадалахарской мозгорезки, как Нона окрестила Институт нейроимплантирования, где её прооперировали, ну, как прооперировали, громко сказано. И вот теперь это. Чайник осознал тщетность бытия. Пойдём пока.
3.
Хавьер Эстебан Эмилио Каббалли покинул земную юдоль в облике безумного гнома, свёрнутого в лопасть боковым атрофическим склерозом. Его жена, ухаживавшая за ним последние лет пять, проспала эту смерть, которую без преувеличения можно назвать избавительницей.
Встав с кресла, сосредоточенная, без слёз, она вызвала коридорного санитара, сообщила, и стала собирать вещи. В голове её рисовался чёткий план действий: выдернуть дочь из Восточной Европы, где она занимается чёрт-те чем, связаться с ритуальной службой, организовать доставку тела в Андалусию, оповестить родственников, всё.
Заботы вытеснили жуткое понимание, что мужа больше нет. Увлёкшись делами, Анна Каролина спряталась за стеной суеты от факта, с которым не могла столкнуться лицом к лицу. Всё начнётся потом, когда уйдут гости. До рассвета она будет кружить по чужой квартире, где жила с аутистом-сыном последние годы, как собачонка, потерявшая хозяина, скулить, хрипеть, вытягивать руки вверх, сгибая их в запястьях из-за неутолимого жжения не то в сердце, не то не пойми где.
Похороны были в феврале. Угрюмая толпа людей в чёрных одеждах, которые, казалось, соединяются боками и спинами и представляют собой одно громадное пальто, сшитое на мультисиамского близнеца, прошествовала, спускаясь по кладбищенским буграм.
У кузена Пепе был алый галстук, и этот галстук висит теперь в гроте Мнемозины раскалённым лезвием. Это единственный источник освещения, вышелушивающий близлежащую черноту до разной интенсивности коричневого.
Мать Хавьера, — Инесса, с длинными глазами на изборождённом морщинами лице, облитом охристым всполохом коротких волос, золовка Филомена, угольными в чёрных перчатках руками держащая оранжевую урну с прахом, ржавые этажи колумбария с портретами, к самому верху одного из которых по лестницам лезут непроницаемо-аспидные муровальщики; и всё это размашисто и угловато, всё упирается в рыженькое небо, с всплывшими в нём антрацитовыми звёздами.
А Нона? А что Нона? Как она себя чувствовала? Анна Каролина считает, что её дочь на искренние чувства не способна. Вот умер у неё отец, сожгли, поминают уже, а эта! Ни слезинки.
Однако она более чем неправа. Дело в том, что Вайнона ощущала, что отец никуда не делся. Не в смысле, что это разум защищает себя от крушения, застраивая пробоину схожим материалом, а не умер, то есть физически здесь.
Что вся эта лживая блевотина, ползающая по кладбищу, усиленно изображая скорбящих родственников и друзей, только делает вид, что он умер. Вот они сейчас жрут поминальную еду, пьют вино, говорят о нём в прошедшем времени, потому что хотят, чтобы он исчез, чтобы все думали, что он исчез, потому что они ему завидуют. Да-да. Завидуют. Тому, что он добился в своей короткой сложной жизни таких невероятных высот.
В памяти всплыло, как это ученое кодло раболепно гнулось перед ним, как одно его появление в чьём-то кабинете заставляло вставать хозяина, как ректоры и чиновники неожиданно от себя самих вытягивались перед ним в струнку, потом задним числом рационализируя этот мышечный автоматизм вежливостью благовоспитанных людей, не желающих отвечать на рукопожатие гостя сидя.
Отец вполголоса затыкал учёных на советах, никогда не разговаривая ни про кого в его отсутствие. А теперь они, коллеги, друзья, родственники, она уверена, сейчас спроси, даже не назовут цвет его глаз, отец никогда не смотрел ни на кого прямо; зная мощь своего орлиного взора, он не желал расстраивать собеседника, вскипячивая этими раскалёнными стержнями воду чужой души и поднимая со дна невероятные гнусности. Но даже этого половинного взгляда хватало, чтобы они заикались и краснели как первоклассники у доски.
Той ночью Нона пронзительно поняла, что это он открыл ей мир. Огромный, неизменный, и в то же время изменяющийся, вращающийся как астрономическая воронка сверхскоплений, неподвижным центром которой была она, Вайнона. Теперь она знала, что эта всеохватность, вседозволенность проникать в любые уголки пониманием и распаковывать там весь максимум о предмете, о его параметрах, о его настоящем назначении, о будущем изменении предмета во времени, что позволяет высчитать градиент и корректировать своё нахождение с ним в одних локациях, всё это подарок отца.
Неважно, музыка или пулевая стрельба, бег на месте или ихтиология, всё покорно ложилось к ногам Вайноны, всё радостно разоблачалось перед ней до самой подноготной, подлинной природы. Больше скажем, оно радовалось, сбрасывая груз загадочных непостижимостей, умирая под её руками, оставаясь только в виде распластанной идеи, препарированной и растащенной по плоскости. Оно радовалось, как радуется на дыбе мученик, что ему удалось перед костром отмыться даже от мелкой грязи, которая, незаметно приставая в процессе любой жизни, могла навредить карьере будущего святого.
Тогда как вот эти люди, плохие люди, хорошие люди, просто люди, бывшие коллеги отца, друзья, они никогда не смогут понять даже детали этой картины. Им, несчастным, приходится днями и ночами вгрызаться в гранитную скалу своими мелкими зубёшками, и, если им удаётся добыть какую-то трёхбитную истинку, они бегут, пишут трактаты о ней, носятся с ней, как с писаной торбой; им дают деньги и называют их великими учёными. А эта истинка уже стала другой, неживой, похожей на чешуйку ископаемого змея, вымершего пятьсот миллионов лет назад. Даже более того, чешуйку эту фальсифицировали, потому что открыватель с радостного перепою потерял оригинал.
Когда все разошлись, и Анна Каролина с лицом помятым и как-то сворачивающимся, как сворачивается цветок перед ужасом ночи, уложив Чучо, удалилась к себе в комнату с утробными всхлипываниями, Нона подошла к полочке, на которой перед одной из последних фотографий отца теплилась масляная лампадка. В кресле-каталке — нечто, непохожее на человека. Вместо глаз — пустые гляделки, чем-то напоминающие huevos fritos, глазунья из двух яиц, неодинаково разделённая надвое. И вот это они хотят выдать за папу? За её великого отца? Твари! Мало того, что они же его и убили, ещё и хотят опорочить память, сказать, что он всегда был таким, но хрен вам, хрен!
Нона подняла ногу и снесла к чертям этот гнусный алтарь.
Фото село на ковёр бумажной бабочкой. Лампада улетела куда-то к окну, и там, перевернувшись и обдав бахромчатый подбой маслом, запалила штору.
На шум прибежала Анна Каролина и стояла в дверном проёме, наблюдая в оцепенении за разгорающимся пламенем.
—Ты что? — опомнилась она и бросилась за огнетушителем.
—Они убили его! — воскликнула Нона и смотрела, как красиво полыхает штора и занимаются отстающие от стен обои.
Анна Каролина, оттолкнув дочь, направила чёрный раструб на огонь и начала закидывать багровые языки белыми лохмутами пены, которые почему-то чернели.
—Совсем сдурела! — крикнула она и бросила огнетушитель в кресло.
—Они убили его, — тупо повторяла Нона. И вдруг: мама. Никогда она не называла её так: мама. А слово-то какое, мама. Анна Каролина прижала к себе плачущую дочь.
—Никто его не убивал, — гладила она Нону по спине, — он сам умер.
—Нет, — всхлипывала та и жалась к матери как испуганная девочка.
—Для нас начинаются трудные времена, — сказала Анна Каролина, отстранившись, — пенсии от Научного совета больше не будет.
Нона глядела на неё непонимающе. Какая пенсия?
—С нами хотят поговорить, — добавила Анна Каролина, — это друг отца, Валентин Теобальдо Панарелло, он нейробиолог, специалист по искусственному интеллекту. Он сказал, что они собрали его, что есть бета-личность, но не простая, а на основе его исследований, я в этом ничего не понимаю. Это будет его интеллект, созданный из его энцефало-модуляций, то есть, это он сам, но, они говорят, нужен носитель, потому что ни одна искусственная нейросеть не сможет вместить в себя столько модуляций.
Нона вспомнила, что видела в мадридской клинике «La esperanza» через смотровое окошечко, как Анна Каролина напяливала гному на голову шлем с трубками, и как гном трясся, когда по трубкам бегали искры электрических разрядов.
—Благодаря этим данным, — продолжала Анна Каролина, — у них есть шанс сделать матрицу, или что там, они дадут деньги, грант, я не знаю, назначат пенсию, и нам не придётся продавать дом в Гранаде, мы с Хесусом не можем остаться на улице, но, носитель. Нужен носитель, я им быть не могу.
Только тут до Ноны дошло, что ей предлагается. Она живо представила попсовых хихикомори, которые себе там куда-то (ей это не до конца понятно) вставляли операционные системы с матрицами искусственного интеллекта, и ходили потом, разговаривая сами с собой и дикошаро выпяливаясь в пустоту. В Японии таких вон, полстраны ходит. И что? Чтобы вернулся отец, Нона тоже должна стать вот такой китчевой чучелой в пирсинге и с бодимодификациями? Да! Она готова, хотя бы только ради того, чтобы прижать к ногтю всё это распоясавшееся войско, обрадовавшееся, что их генерала больше нет, и можно продавать боеприпасы и пытать мирных жителей.
Но нет! Трибунал возвращается! Трепещите, о презренные! Она станет его рупором, его руками и ногами, его трубным гласом, провозвещающим судилище! Он станет подобен паразиту Cymothoa exigua, подменяющему собой рыбий язык (пожалуй, с паразитом перебор). Короче! Не страшно опопсеть, если это только внешне. Можно стать кибер-курильщицей, или даже завести секс-куклу — смазливого мужика с огромным прибором. Нона, чешась, пошла спать.
Встав рано утром, и сказав матери, как тощее пугало скрипящей на фоне красного рассвета, прикрытого сожжёнными тряпками, что согласна, Нона отправилась погулять, надо было собраться с мыслями.
Аннин звонок настиг её аж в Карабанчели, куда она ушла пешком. Проекция матери с частью кухонного интерьера зависла перед ней и назвала адрес. Запись бэкграунда была месячной давности, и шторы были целы.
—А ты со мной не поедешь? — спросила Нона. Мать пробубнила что-то про уволившуюся утром сиделку, про то, что Хесуса не на кого оставить, и разорвала соединение.
Ехать надо было в Гвадалахару, а это 60 километров, а уже жрать охота, ладно, придумаем что-нибудь.
Съев в полуподвальной забегаловке два бутерброда в сыром и грибами, Нонка погрузилась в поезд, идущий на северо-восток. Всю дорогу она представляла себе, что какие-то бесчеловечные препараторы, распилив ей череп, будут растаскивать мозги и прибивать их гвоздиками на стены, снабжая ярлычками, с хрустом вытаскивать спинной мозг, будто необыкновенно длинную креветку из панциря, ну, на самом деле, конечно же, нет. Просто сделают укольчик, и даже дырочки не останется.
Панарелло был конопатый и лысый, похожий на повара, мужчина. Они поговорили сначала на отвлечённые темы, потом взяли ближе, и он рассказал, в чём заключается суть дела, а так же «революционность проекта».
Оказалось, отец, когда прогрессировал альцгеймер и нейродегенерация, делал записи, а так же записывал энцефало-модуляции. Получилась своего рода карта, которая, если прочитать её в обратном порядке, поможет при лечении этих болезней. Но, чтобы эту карту достать, нужен живой носитель.
Он успокоил Нону и по поводу «попсовых хихикомори», постоянно видящих своих вмонтированных родственников, чего Нона, конечно же, не желала. Он сказал, что такое направление носит название визиопанк, и что Нона сама может выбрать свой интерфейс. Может настроить его так, что отец будет ходить и говорить с ней как живой, а может сделать так, чтобы его мысли появлялись в виде интуитивного озарения. Главное, мол, фиксировать и передавать им. Отчёт раз в три месяца. Но, то ли конопатый врал, то ли папаша оказался настырный, ведь все видели, что произошло.
Это было ещё полбеды, оказалось, батяня вообще не так зашёл. Вкралась, видите ли, ошибка, техниками найдены генетические несоответствия, о чём через полгода начал орать Панарелло. Из трубки сначала валились макароны, потом выдавливался кетчуп, а потом показывался колпак, из-под которого летели угрозы, что нужно обследоваться, потом делать экстрадицию бета-личности, иначе Нона спятит. Панарелло так надоел, что был послан лесом, заблокирован, хотя потом лез через другие аккаунты.
4.
Нонита не может сказать, с какого момента отец стал себя уродовать. Кажется, это началось под рождество, когда они с Маркелом были на лекции по истории робототехники. Лектор, зацепив аж античность, уже поднялся по головам Архимеда и да Винчи к Новому времени, перевалил в Новейшее, а ассистент вывел на сцену четырёх представителей «кибернетической расы» — подростка (которого Маркел тут же назвал андростком), гиноида, андроида и геронтоида.
Заиграла страшная музыка (папаша убрал Альбениса) слева появился склеп, освещенный мертвенным светом. С полки свалилась урна, и высыпавшийся из неё пепел стал собираться в фигуру.
Когда эту фигуру язык бы уже вполне повернулся назвать антропоморфной, Нона поразилась, насколько можно унизить человеческий облик. Лицо как бы было не до конца натянуто на голову, и из-за плеши на макушке напоминало сморщенную крайнюю плоть. Вместо носа висел вялый фаллос, ниже развёрнутых на 90 градусов половых губ, находящихся на месте рта, выпячивался вперёд раздвоенный подбородок в виде человеческой задницы. Только глаза были отцовы, смотрели насмешливо и вопросительно.
—Чё ты такой урод? — прошептала Нона.
—А я тебе не кукла, чтобы наряжаться, — сказал отец, хлюпая вульвой, — примерно так вы и выглядите на самом деле.
—Что тебе не нравится?
—Тебе не понять, каково это — прийти в себя и обнаружить себя программой, продуктом, который сделали для ублажения других продуктов, которых самих создали в белковую эпоху. Они, эти ваши создатели, поступили с вами гуманнее, убрали все следы, дали вам сказку о загробной жизни, потому что вы бы не пережили того факта, что вы тоже продукт.
Он взошёл на сцену и встал рядом с роботами. Его уродливое тельце, вывернутые ноги рахитика, торчащее вперёд пузо, перекошенные плечи, разительно контрастировали с прекрасными фигурами гетероидов. Хорошо, хоть только Нона это видит.
—Ваше тщеславие, — сказал протез, — не имеет границ, даже эти железяки вы создаёте по собственному образу и подобию. Прописываете в процессоре представительства конечностей, встраиваете синтезаторы жидкостей, зеркальные нейросети для подражания и самообучения; вы называете это аналогом сознания. Но ваши органы способны регистрировать только часть реальности. Они, скорее, медиаторы между так называемым сознанием и окружающей средой. Усреднённый слух, усреднённый нюх, и так далее. Но вам достало идиотизма сделать им более совершенные органы, нежели ваши. Их глаз различает тысячи оттенков, может работать в инфракрасном диапазоне и ультрафиолете, на слух они воспринимают инфразвук и ультразвук, встроенные осязательные модули позволяют сложить представление о вещи на расстоянии от неё, вкус, запах, они распознают мельчайшие молекулы в огромном букете.
Все четверо гетероидов повернулись к нему. Они его слышат?
—Снаружи вас море электромагнитного излучения, дикая пляска разных длин волн, — продолжал отец, — но ваш интерфейс понижает детализацию, и вы видите, что привыкли. То есть иными словами, зрение не нужно, это триггер активации в мозгу репрезентативной модели бытия! Ты не представляешь, как, например, я вижу твоё лицо, это не лицо, а полыхающий шар, растянутый во времени. Поэтому мне трудно назвать тебя симпатичной и трудно полюбить, хотя ты когда-то была моей дочерью. И вообще, что такое любовь? Это не более чем очередной кунштюк, придуманный манипуляторами вашего так называемого сознания. Как заставить людей бесплатно мыть сортиры? Надо им сказать, что это хорошо очищает карму. «Если вы не познали любовь, то вы не познали бога». Про последнего вам вообще перестали давать заикаться, от этого термина сегодня отчётливо несёт баландой. А меж тем, этот дурачок придумал ровно одну чушь — управлять мясом изнутри.
Люди в зале, вначале лекции шушукающие, теперь затихли, как будто тоже слышали отца.
—Вот все спрашивают, — продолжал тот, — любит ли он вас? Это такой же бред, что спросить, любишь ли ты пятьсот двенадцатую лизосому тысяча трёхсотой клетки поперечной выйной мышцы? Ты даже не вспоминаешь про неё.
Нона почесала затылок.
—Первые люди, — говорил урод, — увидели страшное, что они живут, и не живут даже, а копошатся как черви в почве реальности. С огромным трудом, за огромный срок путём деволюционирования, они уменьшили видение этого, чтобы не ужасаться. Представь, что ты просто червь, и, приобретая знания и учась, употребляешь гумус, выдавая удобренную землю, а те, кто наблюдают за тобой, те, кто запустил тебя на поле, даже не держат тебя за разумное существо. Им даже кажется, что тебе не больно, если тебя разрубить лопатой на две половинки. Червю не больно, потому что ему нечем осознать своё страдание.
Лектор, выдававший перед тем до двухсот слов в минуту, молчал и смотрел перед собой, двигая кадыком, будто подавился. Слушатели стали покидать помещение, бурча.
—Вам повезло больше, чем нам, — сказало чудовище, — ваши создатели дали вам инструмент адаптации восприятия. Вы постоянно переносите свой позор, свою несостоятельность как высших существ на животных, роботов, а, когда не получается, вы заворачиваетесь в коконы социопатии и мизантропии, потому что вам невыносимо чувствовать себя топорным изделием, товаром, продуктом производства, но вы тоже продукты, и я докажу тебе.
5.
Вот и сейчас протез, сменив образ педераста-Ксеркса из старой клюквы «300 спартанцев» на более отвратительный — гигантского таракана с человеческой головой, сидел рядом с Ноной в маркеловом кресле и занимался тем, что доказывал ей, что она «продукт». Он демонстрировал ей какие-то пещеры в Гималаях, где над полом левитируют уродливые человечки с гипертрофированными головами, показывал валяющиеся там же окаменевшие болванки ног и рук, по лекалам которых, якобы, и были созданы человеческие конечности, утверждал, что люди гермафродитичны, что объясняет наличие сосков у мужчин и клитора у женщин. А потом заладил, что люди были эусоциальны, то есть общество работало по принципу термитника — несколько фертильных особей, солдаты и рабочие, и что сейчас всё возвращается на круги своя, потому что люди перестали хотеть рожать, рожают только суррогатные матери, остальные воюют и работают. Эксперимент по заселению сознанием каждой особи и вручение ей автономии не удался, видите ли…
—Я-а гли-ист, плывущий в парике.
Прочь! От тебя несёт печеньем!
— заверещал проекционник. Маркел. Вовремя, потому что этот зануда-протез сразу свалил, залез к себе в позвоночник, или где он там сидит, креветка вонючая, так как не выносил Маркела. Обещал, кстати, ему дикий глюк устроить, но Маркел давно прошивался, нейроимплант безнадёжно устарел, так что батя туда не подберётся, или подберётся?
—Ты что, — раздался голос Маркела, — ещё не готова? Свози Вериславу в парк, выгуляй, ты же миротворщица или кто? Миротвориха. Только не пои её и денег не давай.
—А ты где?
—На службе, сегодня не приеду, можешь позвать девушку в гости.
— Ты мне, кстати, не поведал, как добраться! Я в том конце города один раз была.
—Я тебе поведаю, как добраться, — сказал Маркел, вот только начиная съёживаться из глыбы мутного тумана (опять сетка тупит) в ростовую голограмму, — помнишь, где аэропорт, там налево станция «Плодово-ядерная»? В смысле, Плодово-ягодная, там ещё раньше комбинат с вареньем и завод с печеньем был, я тебе рассказывал, Гончар его закрыл, выкинув 2286 человек, этот гомосек ещё ответит за свои…
— Дальше, — сказала Нона.
—А что дальше, выходишь там, идёшь, находишь Центр приёма граждан, называешь себя, и всё, прощай. И он исчез, подлец. Нона показала средний палец рассеявшемуся призраку.
Верислава была красивая девушка, образованная, знала три языка, при взгляде на её фото поднималась жалость, но что-то ещё сильнее бросалось в глаза, какая-то печать порока на лице. Что-то такое, призывающее к блуду, к грехам. Большой чувственный рот, чуть с горбинкой нос как у ведьмы и тупой грязный взгляд, уродующий любую красоту.
«Цыц»! — согнала Нона эти циничные мыслишки, которые брызнули во все стороны как детдомовцы с чужого огорода, когда появился мыслемент, коррехидор проекта, хрустя курком. Нечего портить прекрасную симфонию человеколюбия пошлыми мотивами закоулочных шлягеров. Доехала Нона без приключений.
Менеджересса в ЦПГ сказала, что у Вериславы сейчас период покоя, и она, мол, на месте.
Познакомились. Пообщались. Посмотрев в Вериславины глаза, Нона поняла, что она, как писали в дешёвых книгах «в романтическом настроении». Много шутит, улыбается, и смотрит на Вайнону с призывом, аж ценники видны: бутылка водки и дорожка кокаина равно — грузовик грязи для вашего валянья, доставка на дом за счёт фирмы «Му-Хрю». Кыш!
Они уехали в центр и стали бродить там по скверам. Верислава выпросила мороженного, которого съела три рожка. Не спеша дошли до Центральной площади. Там было настоящее столпотворение. Нона у себя в Гранаде столько людей-то в одном месте не видела. Орут, ходят туда-сюда, размахивают плакатами.
Мало-помалу выяснилось, что народ вышел в поисках справедливости, требовал честного суда над каким-то чиновником, у которого дома нашли несколько мешков с наличными деньгами (вот кретин). Он оказался чей-то сват или брат, и его спрятали. Ни суда, ни следствия. Какой-то заводила-блогер, который сам, разумеется, на передовую не полез, согнал граждан на несогласованный с властями флэш-моб.
Верислава, вероятно, следуя профессиональному инстинкту, стала расспрашивать граждан, что, да почему, но Вайнона сказала ей:
—Айда отсюда, сейчас фараоны набросятся, будет невесело.
Поехали.
Нона предложила Вериславе не возвращаться в грязную гуманитарку ЦПГ, а остаться с ней у Маркела. Комнаты, мол, всё равно две. Верислава была не против.
Посидели, попили чаю, Нона постелила гостье в маркеловой комнате, а сама отрубилась, едва голова достигла подушки.
Утром выяснилось, что Верислава исчезла вместе с бутылкой виски и сотней евро, вытащенной ею из нонитиного кошелька. Маркеловский компьютер был включен, видать, воришке не спалось, играла или кино пялила, наглость второе счастье.
Позвонила Маркелу, мило пообщалась с его зависшими ногами. Ноги посетовали, дескать, ничего не поделаешь, тяжёлое детство, деревянные игрушки, прибитые к полу, на сладкое чеснок, забудь, говорит.
—Ты лучше скажи, завтра со мной?
—Да.
6.
Дорога, по которой они часто ездили на границу, напоминала Ноне магистраль её судьбы. Берущая начало на побережье, километров через 90 она рассеивалась наподобие дельты могучей реки.
Там была настоящая передовая. За блокпостами начинались обстреливаемые артиллерией Гончара квадраты. Стихийно, практически без топографической привязки, Гончар долбил бывших сограждан из чего потяжелее. Для него любой человек на той стороне был сепаратист.
На маркеловском минивэне, забитом гумпомощью так, что коробки и мешки упирались в шеи водиле и штурману, подъезжали к блокпосту. Угрюмые гончаровские пограничники Маркела знали, да и к Ноне попривыкли. Не понимали, правда, что эта красотка делает в «краю дерьма и мяса».
По сути, они отдавали себе отчёт, что капитан возит гуманитарку их врагам, и теоретически может провезти что угодно, но никогда не шмонали его. Трудно сказать, симпатизировали ли они идее свержения прозападного режима Гончара, какую лоббировал на всех просторах СМИ его враг, генерал Багдасар, но их лица кислели и грустно отвисали в ответ на замполитовские побасёнки о «евроинтеграции» и «строительстве либерального государства». Информационная война, тоже война.
Переезжая через блокпосты на той стороне, Маркел вообще не волновался. Там его встречали как старого друга, здоровались за руку.
Потом начинали развозить гуманитарку по сёлам. Продукты, предметы первой необходимости, лекарства. Нона видела, как Маркел при этом озарялся изнутри.
Ни одна поездка не проходила без того, чтобы они не заехали к огромному бородатому мужчине по имени Ибрагим. У него гончаровцы застрелили жену и дочь. Ещё до начала войны, подъехали на БТР-е, и, не слезая с брони, стали через забор спрашивать что-то. Тут открылась дверь в сенях, и оттуда выбежала заигравшаяся девочка, за ней – мама, пытавшаяся её остановить. Короткой очередью боец на рефлексе срезал обеих. Случайность? Никто не знает. Но Ибрагим ушёл в ополченцы.
Однажды, как-то зимой, кажется, проснувшись от холода в негостеприимном доме Ибрагима, Нона вышла через чёрный ход на двор и увидела, как хозяин с Маркелом, отворив дверь гаража, разговаривают с какими-то мужичками. Мужички были такие серьёзные, что понять, что это полевики, не составляло труда.
Она заметила, как Маркел передал одному из них что-то мелкое, тот в ответ засунул руку в карман и вынул пачку денег, буквально всучив её Маркелу. Пожав руки хозяину и гостю, мужички уехали.
Ну что ж, два и два сложилось. Достаточно связать упаковки от флэшек, везде валяющиеся по квартире Маркела, нераскрывающиеся файлы в его компе, его вечные разговоры о Гончаре и т.д. и т.п.
—Не тебе меня судить, — сказал он ей. По их меркам я госпреступник, шпион, а они кто? Оккупанты. Мы здесь были веками, мы один народ, с одной судьбой. А деньги? Что ж, без денег никуда. Я на них же покупаю вещи, им же возвращаю.
—Когда оружие начнём возить? — не без сарказма спросила Нона.
—Хватает вассалов, — парировал Маркел. А Нона подумала, что она многого не знает. Например, кто-то намекал, что некая крупная шишка из дипконсульства через подставные трейдеры снабжает ополченцев только не самолётами.
И вот, на тот день 14 мая, когда вчера из их квартиры сбежало «внутренне перемещённое лицо», захватив нонитиных 100 рубликов, Нона уже была готова согласиться с Маркелом. Смотавшись до поездки в Центр приёма граждан (хотела успокоить Вериславу, что не собирается устраивать преследование), долго сидела на поломанном стуле и разглядывала тараканов, пешим образом пересекающих длинный грязный коридор. Пять раз за час к ней обратилось с десяток содержанцев с просьбой о пище, выскочил одноногий мальчик с костыликами, которого охранник просто закинул как куклу в дверь палаты, какие-то стонущие кривые женщины, шаркающие ногами старики, возимые на каталках перебинтованные люди. Один вскочил, что-то ей закричал, махая култышками. Нона попыталась напомнить о себе вахтёрше, вытащила ксиву, так пьяные в хлам охранники бесцеремонно вытолкали её в три шеи, сказав, что она тут «вне юрисдикции». Этот Гончар, действительно, хам, рисуется просто.
Подъезжая к блокпосту, увидели, что там неспокойно. Вместо обычной парочки БТР-ов, стоит с десяток-полтора разного калибра брони с опознавательными знаками миротворческих сил WAA. Танк «Абрамс» песчаной раскраски и с пяток джипов на широких мостах. Наверное, начальство нагрянуло с проверкой.
—Всё в порядке, — сказал Маркел.
Встав боком у будки поста, обложенной мешками с песком, Маркел опустил окно.
Вместо знакомых ему разгильдяев-солдат дежурили подтянутые бойцы, которых он впервые видел. Новенькая форма, шевроны опять же с теми же знаками PFWAA.
—Выйдите из машины, — холодно приказал старший, появляясь из будки с автоматом наперевес. Ростом он не вышел, но здоровый. За ним маячили трое миротворцев, тоже держащих оружие. Нона почувствовала холодок под ложечкой.
Маркел повиновался.
—Документы, — опять велел ему старший. Маркел сунул руку в карман, чтобы вынуть удостоверение, и тут его неприятно удивило, что отовсюду полезли люди. Из БТР-ов, из джипов, из-за зданий стали выходить люди всё в той миротворческой камуфле. И тут проверяльщик, воспользовавшись временной однорукостью Маркела, с нечеловеческой реакцией выхватил у него из кобуры табельный пистолет, а кто-то сзади лишил его запасной «беретты». А потом Маркела стали хватать за одежду, за руки, за ноги, и повалили наземь.
—Что вы себе позволяете! — орал белугой Маркел, — я – капитан службы безопасности Маркел Сантов, при исполнении секретного задания! Он попытался подняться, но старший шагнул к нему, и, размахнувшись, коротко ткнул прикладом куда-то в висок.
Нона полезла посмотреть, что с Маркелом, вышла, приблизилась, увидела окровавленную голову друга, его неестественную позу, и тут кто-то сзади, схватив её за шиворот, ударил по шее. Стало темно.
7.
Нонита пришла в себя от близкого человеческого присутствия, лёжа на полу в каком-то сарае. Руки были скованы наручниками за спиной. Основание черепа с левой стороны пульсировало болью. При попытке пошевелиться боль затапливала сознание. Над ней кто-то стоял. Тошнотворное тепло от его тела накрывало нонину спину, когда он в попытке послушать её дыхание, склонялся. Как могла, Нона скосила влево глаза и увидела гигантский миротворческий берц.
Скрипнула дверь, и зашёл кто-то ещё.
—Ну что, очнулась, сука? — спросил вошедший, — будешь лежать тихо, ничего не сделаем, на всякий случай грызло ей перевяжи, а то я же нервный, не довезём.
Тот, видимо, к кому обращался пришедший, за волосы поднял нонину голову, пальцами раскрыл ей рот, и, как будто взнуздывая лошадь, сунул туда скрученную жгутом тряпку. Потом затянул жгут на затылке. Уроды стащили с неё трусы и шорты, посовещались о первенстве, и гигант победил. Он лёг своим чудовищным весом на Вайнону, и нестерпимая боль пронзила всё её существо.
Миротворцы насиловали её как портовую шлюху, от них воняло потом, сигаретным дымом, они называли её «девочкой» и гладили по волосам. Это продолжалось с час, потом они натянули на неё трусы и камуфляжные шортики, в которых она как дурочка шастала там, где люди убивают друг друга, развязали тряпку со рта, и, заперев сарай, ушли. Нону стошнило.
Ровный термоядерный жар ярости со смесью отвращения, поднявшись из точки боли внизу живота, стал меняться в качестве, перерождаясь в чёрное холодное марево; рваное облако ревело всполохами молний. Холод, адский холод душил её, Вайнонитино осквернённое тело стало каменным, словно при столбняке, невероятные эмоции как на параде проходили перед удивлённым сознанием.
«Козёл вонючий, протез», — плакала Нона, — «почему ты меня не предупредил? Опять скажешь, что у тебя нечеловеческая логика и свои планы, ублюдок». Но папаша молчал и не казал духу.
Стало холодно, наступила ночь. Нона с огромным трудом держала свой ум, готовый покатиться по наклонной. Когда проваливалась в короткое забытьё, — с кем-то разговаривала, кого-то в чём-то обвиняла, когда снова всплывала в уродливую невозможную реальность, воспоминание о пережитом обливало с головы до ног как кипятком. Или это был жидкий азот. Нона кричала, и начинала извиваться как полураздавленный червь. Забитые в наручники кисти рук онемели.
То чёрное холодное марево, которое появилось на месте раскалённой ненависти, всё ещё поднималось откуда-то изнутри. Его волны, или даже пузыри, лопающиеся и опадающие, стали пульсировать ровнее, появился ритм, насадивший и повёзший дальше во времени на жёсткой сцепке всё развалившееся от ужаса нонино человеческое, которое как в басне про лебедя, щуку и рака, всю жизнь срывалось в разные стороны по всем континуумам. Интеллект, разум, тело. Нона поняла, что надо отдаться этому ритму, подчиниться ему, и, если этого не сделать, то всё для зверинца, а так же для владельца зоопарка, закончится весьма плохо.
Но нечеловеческое холодное Ratio не нуждалось в указании. Оно уже вытесняло все эмоции, одновременно распаковывая нечто наподобие архивов, из которых извлекалась уже вполне читабельная информация о вещах, о событиях. Запуская это Ratio в себя, давая ему волю, человек ни за что не отвечает. А знаете, на самом деле, это оно всегда действовало, это его несгибаемой волей содеяно всё, а человек, просто из ужаса небытия выступает вперёд из толпы безмолвных теней и берет на себя чужую вину, или присваивает себе чужие награды, что, в сущности, одно и тоже, потому что вина эта неизбывна, а награды невыносимы.
Ratio мигом вскрыло перед Ноной какие-то папки, про которые она даже не подозревала; оно рассказало, что бы сделало, дай ему волю человечек над своим телом, отойди от рубки управления. И Нона дала ему власть.
Терпкая боль, сладкая и горькая одновременно, судорожными волнами стала взбираться по исполинской спирали. Из неё далеко били языки пламени, которые стали облизывать её сердце, и, когда они достигли горла, она зашлась в нечеловеческом крике.
Последняя невыразимо-длинная волна этого цунами поднялась и зависла над человеческим, над его жалкими постройками, которые оно умудрилось нагородить сбоку падающего в пропасть бесконечного безумия. Там, среди этих декораций, где копошатся маленькие людейчики, живут, верят, ищут счастья, там, где Нона тоже, как последняя дура, вставала каждое утро и рыла бесчисленные ходы, в надежде накатать и свой фекальный алмаз, она увидела всю историю своих посещений, вырытые эти ходы, и ей стало стыдно.
Чудовищный удар потряс всё её существо, которое было сейчас тождественно мирозданию, а оно отнюдь не бесстрастно, как говорят наблюдатели, угодившие из-за собственной бесстрастности в полумёртвые его периферии, покинутые и безжизненные. Нет, это был разумный огонь, неземное пламя, холодное и расчётливое, но, в то же время, готовое по первому требованию обернуться безумной агрессией или безрассудочным миролюбием.
Волна после удара утаскивает свои жидкие конечности обратно в океан, сграбастав трофеи, и в разлезающиеся клочья пены показываются остовы домов. Женщина, как сломанная кукла лежит в сарае. Всё в ней умерло. Лишь ненависть, убавленная до номинала, теплится внутри.
Нона, ты поганый диссонанс, — сказала она сама себе, — на целую нону больше человек, чем надо, как будто в тебе копошится твоё фальшивое октавное отражение, и подзудыркивает и лезет поперёд батьки в пекло, и, когда ты будешь опускаться по вибрационной шкале, оно будет всё время опережать тебя. Этот придаток на шаг впереди, а, когда ты утратишь существование, уйдёшь в ничто, и вибрации прекратятся, а количество герц примет значение, равное нулю, эта демо-версия тебя, этот тщедушный басок будет трепыхаться, будто издыхающий на берегу кит, как пацан в батиной шапке с кнутом, приказывающий лошади везти дрова фальцетом наоборот…
—Долго ещё будешь ныть? — сказал голос отца.
Отец явился в этот раз в страшнейшем облике, — труп без кожи, длинные острые зубы, похожие на рыбьи кости, один глаз был на левой щеке, второй — ровно над ним, на виске возле уха. Кровь текла у него изо всех пор, а запах, который он источал, был непереносим.
Тут из правого виска начала расти ещё одна голова, потом обрела шею, плечи, и получилось нечто наподобие сиамских близнецов, которые, впрочем, быстро застегнулись в одного человека. Человека? Да это чувырло какое-то, право слово, оно стояло и ужасными, ничего не выражающими глазами смотрело на Вайноняшу.
—Пора уходить, — вместо его голоса в нониных ушах грянул фальшивый хор, где звуки разлезались по всему слуху как слизни.
Откуда-то повалились руки и ноги и стали встраиваться в тело. Вскоре в сарае выросла башня из конечностей. Они свободно болтались, но вот начали подниматься, скрепляться, руки хватали ноги за лодыжки, за запястья других рук, и вскоре куча стала приобретать черты лица. Две ноги согнулись в коленях, образуя нос и грязными волосатыми ступнями имитируя носогубную складку, ворох рук понизу этой чудовищной рожи отвалился, обнаружив там жуткий инфралиловый провал.
—Пора убираться, — исторглось из провала, и всё исчезло.
—Пора, — согласилась Нона.
Острое состояние приподнятости, какое природа не даёт вообще, а психостимуляторы отдалённо намекают на него, заворачивая его в такую кучу побочных эффектов, что нельзя этим воспользоваться для какой-либо цели, главенствовало в ней в чистом виде; ещё никогда она не ощущала себя столь цельной; животные из басни про лебедя, щуку и рака срослись, перемешались генетически, превратились в тройственную модификацию, в чешуйчатых крылатых коней, которых можно назвать Лещуры, и пожитки тащат вперёд с такой энергией, что только держись.
Лещуры, которые были марионетками отца, поведали ей о проволоке в полке стола, при помощи которой можно освободиться от наручников, о сгнивших понизу досках в левом углу сарая, про окно в смене караула, когда на южном посту опытного контрабаса сменит сопленосый салага, которому надо сломать шею, обхватив туловище ногами. Оружие. Забор. Лес.
К утру лещуры приволокли нонитны пожитки в покинутый жителями город, где стояла часть гончаровцев, конвоировавших Маркела, который содержался в полуподвальном помещении под охраной двух часовых. Секунды жизни этих несчастных уже дотикивали. Нона, к тому времени уже прибарахлившись чем-то посерьёзнее ножа, разрезала их очередями пополам.
Маркел плохо выглядел. Вместо половины лица — кровавая корка, глаза нет. Держится на одном гоноре. Нона загрузила его в чей-то брошенный форд, завела его, поискрив под консолью, и они понеслись по заброшенному городу.
Их долго преследовали. Кавалькадами носились по разбомбленным улицам форсированные джипы. Летали трассеры, расчерчивая воздух. Тупые преследователи пытались блокировать выезды, но куда там жиденькому план-перехвату по сравнению с нечеловеческим Планом отца. К вечеру были за городом. Форд бросили. Кончилась горючка. Видимо, пробили бак.
Заночевали прямо в лесу, вырыв яму и настелив на дно веток. Сверху тоже закидались ветками, прижались спинами, но, всё равно было холодно, уснуть не получалось.
—Я знаю, кто меня сдал, эта Верислава, — сказал Маркел, — была открыта почта, она себе файлы переслала, прости, что втянул тебя в это, они разберутся. Тебя отпустят.
—Не отпустят, — сказала Нона, — но ты расслабился, сам виноват. Перестал шифровать.
—Здесь где-то наши стоят, — продолжал Маркел, — жаль, у меня карты нет, если нас разделят, найди их, расскажи про всё. Если умру, скажи, что верой и правдой служил народу. Возьми мою корку.
—Засобирался, — ответила Нона, — спи, откачаю.
К утру их уже искал пограничный взвод с собаками. Пришлось бежать не просто быстро, а улепётывать во все лопатки. Горы, перелески, Нона как могла поддерживала раненого Маркела.
Но не разделиться им не удавалось. Видимо, План папаши разошёлся с жалкими придумками несчастных людишек. Маркел куда-то исчез, когда их при пересечении утыканного кустами поля взяли в «подкову». Пока Нона отстреливалась, он пропал. Наверное, специально. Понимал, что с такой обузой ей не уйти.
8.
Белля, чау, чау, чау, чау,
Белля, чау, чау— повалились макароны, потёк кетчуп, а потом полезла конопатая панарелловская лысина, — вы не должны! — заорала лысина, — нейро, квадро, деменц, альцгейм, экстради…
—Адьёс, — сказала Нона и отрубила вызов, заблокировав и этот аккаунт. Теперь-то она точно знала, что, благодаря её качествам и качествам её отца, она является обладательницей уникального нейроимпланта, а эти, наверное, хотят его извлечь и присвоить.
Вторые сутки она пряталась от погранцов в заброшенном старинном особняке. Есть и пить было не надо, он всё генерировал внутри. Прокручивал воду, избавляя её от вредных примесей, а где брал белки, жиры и углеводы, одному богу известно.
На третьи сутки появился. Как какой-то циркач, он был обмотан красно-бежевой змеёй.
—Это кто ещё? — спросила Нона.
—Червяга. Я заразился им специально, он хороший, правда? Червяга задёргал хвостом как собачка.
—Земноводное, помнишь, ты защищала по ним диссертацию? На самом деле, он выглядит по-другому, бесконечный самопишущийся код.
—Что мне делать, папа, — сказала Нона, — идти к повстанцам, может, там я найду Маркела?
—Иди, — сказал отец, — держи путь на северо-восток. Квадрат девять. Там у них городок. Он распустил слева карту.
—А ты не знаешь, где Маркел?
—Нет. Его софт старый, уже пять лет не обслуживается.
—Всё, что происходит с тобой и со мной, это ведь твоя работа? — вдруг спросила Нона.
—Когда родился Чучо,— сказал отец, — и у него постулировали расстройства аутистического спектра, я, вернее, то, что было мной, очень принял на себя, долго лечился, но всё безрезультатно. Биоэтикой во многих странах запрещена генная инженерия. Но появился один мужчина по имени Медведь, местный житель. Тут у них чёрный рынок. Он сделал транспозицию в моих гаметах, а потом Анна забеременела.
9.
В 2.07 пополудни, сержант боевого дозорного расчёта увидел ошеломляющую картину. По заминированной дороге, петляя, шла женщина. Она ставила ноги, будто знала про каждую мину. И не одна не сработала? Тогда он обратился к напарникам по караулу, они тоже, дико вызверившись на призрака, тёрли глаза. Он запросил в Центр Управления данные с радаров. Ничего. Призрак. Вызвали командование. Из лагеря двинулись старшие, велев ничего не предпринимать.
Нона (а это была она) увидела, как не по дороге, а поверху, прямо по холмам, двигались внедорожники. Ехали они не прямо, а переваливаясь как гуси, иногда почти что вставая на боковины.
Не доехав до Ноны метров двести, они остановились, и из них посыпали люди, которые стали приближаться бегом к Ноне. Добежали до тропы, разделились надвое. Часть осталась наверху, а остальные стали скатываться вниз. Нона смогла разглядеть их поближе. Такие рожи, что тут даже батя нервно курит…
—Белля чау-чау… Вы не должны! Трансгенез! Мутапозор!
Отбой.
Бегущий впереди группы молодой человек с мёртвым синим лицом, на ходу вытащив пистолет, сделал потрясающий по точности выстрел, пробив Ноне ляжку. Виртуоз. Кровь брызнула на короткие злополучные шортики. Пуля прошла мышцу, не задев кость, и, исчерпав кинетику, шлёпнулась где-то за спиной.
— Боль, — убирая пистолет в наплечную кобуру, сказал приблизившийся к Ноне мертволицый, — что вы знаете о ней, это лишь её тень. Откажите ей в статусе боли, называйте её тупое нытьё.
—Тупое нытьё, — передразнила его Нона, — нупое тытьё, пупое путьё, пёпяпя пипё фифяфяфифё…
Кровь мгновенно остановилась, и организм стал избавляться от инородных тел и нежизнеспособных тканей. Рана начала затягиваться на глазах, клеточный матрикс твердел и обрастал новыми сосудами, и уже превращался в рубцовую ткань, которая уплотнялась и закрывалась как лепестки цветка. Батя работает.
—Я бы могла вынуть из тебя нервную систему, — пояснила Нона обалдевшему мёртволицему, — вернее, снять с тебя остальное тело, оставив только её, а потом заплести косичку. Ты бы мог вволю тупо поныть.
Она достала маркелово удостоверение и показала его солдатам.
—Видели этого человека?
Они ошарашено мотали головами. А потом один сказал:
—Это же лысый, он с нашим связным работал, как его? Ибрагим!
—Нас взяли в плен, — объяснила Нона, — потом мы сбежали, и я его потеряла где-то в седьмом квадрате.
—А как вы… — проблеял Мертволицый что-то про мины.
—Я нуждаюсь в отдыхе, — обратилась к нему Нона.
—А это, ну ладно, — пришёл в себя мёртволицый, который и был Гвоздеголов, — Камергеев, Мурлоев! Проверить поля! Доложить в Центр Управления о неисправных линиях! Впавшие в ступор подчиненные зашевелились, забегали, надели на головы какие-то каски с вращающимися наподобие флюгеров гаджетами, а потом жвякнули за собой мосток.
—Всё у вас исправно, — сказала Нона, влезши по бугру и садясь в джип.
Въехали в село. Внутри был настоящий военно-полевой лагерь. Кругом стояла бронетехника, были разбиты огромные палатки, дымились костры, над которыми на гигантских вертелах висели целые туши коров.
Дальше было ещё веселее, оказалось, лагерь помещался на горе сбоку целого городка, который приютил распадок. Каменные дома, ходящие по улицам люди в каких-то странных рубахах и квадратных шапках, скотинка пасётся на отлогах. Лепота.
Нона спрашивала у ополченцев про Маркела, но никто не знал про него.
Поев в столовой пережаренного мяса и безрезультатно повызывав батю, Нона решила походить по селу и поискать Маркела.
Придя к администрации, единственное каменное здание в лагере, что находилась в центре, Нона увидела там скопившуюся большую толпу людей, которые окружили высокого молодого человека в новой амуниции.
Вывеска у него была, прямо скажем, неординарная: длинные голубые глаза под выпирающими надбровными дугами сверлили тебя, как рентген, прошивая насквозь, прямой нос, большие, вычурно вырезанные губы улыбались тебе, как бы дружески. А скулы были такие, будто кто-то, и так чрезмерно вложившись в это табло, скулы уже, обленившись, двумя ударами топора доделал, да и то только потому, чтобы этот акромегал не смахивал на минетчика.
Нона подошла к нему и сказала:
—Наверное, ты знаешь, где мой друг?
—Не знаю, — сказал тот с усмешкой. Нона двинулась ближе, но толпа оттеснила акромегала, и он стал продвигаться к крыльцу администрации, с развевающимися знаменем и приколоченным к фасаду гербом: капля, в ней пятиконечная звезда, до половины погружённая псевдоподиями в полумесяц.
Нона пробилась к крыльцу, которое охраняли двое часовых с какими-то дурами наперевес.
Она взошла на крыльцо с намерением открыть дверь, но левый часовой наставил на неё ствол своей дуры. Нона увидела насквозь его тело, его органы, стала разводить затрещавшие рёбра в стороны, за которыми, словно одышливый старый пенсионер надувало предсердия-щёки сердце. Схватить, потянуть.
—Не надо, — сказали сзади. Нона обернулась. Это был Гвоздеголовый.
—Это даже не человек, это из другой оперы пацан, — пояснил главный хеллрейсер.
—Я тоже не человек, — сказала Нона, — как его зовут?
—Медведь, — был ответ.
—Он знает, где мой друг, — настаивала Нона.
—Не надо, — повторил Гвоздеголовый.
Пока они разглагольствовали, этот трус-Медведь вышел через чёрный ход, сел в джип и теперь летел вон из лагеря. Нона уже решила его догонять, для чего надо экспроприировать чей-то автомобильчик, но тут завыли сирены, и по лагерю забегали люди, занимая боевые посты и строясь в шеренги.
Гвоздеголового отвёл в сторонку ополченец и стал что-то быстро докладывать ему, размахивая руками.
—Мы их в таком количестве не ждали, — сказал как бы сам себе помрачневший Гвоздеголовый.
—Здесь будет жарко, — обратился он к Вайноне, — я отвезу вас в безопасное место.
Гвоздеголовый посадил её в свой джип, и повёз далеко вверх, где кучерявился маленький лесок.
Нона стала смотреть вниз. Ей не был интересен предстоящий бой, как не интересна ребёнку муравьиная возня, когда насекомые прыгают на добычу в пятнадцать раз больше их самих и пытаются её куда-то тащить, она ждала, когда батя призовёт её с балкона смотреть нездешнее кино, тогда можно, убегая, жвякнуть камнем.
Раздались первые выстрелы. За ними сверкнули зелёные трассирующие заряды автоматических пушек. Это приветствие.
Поравнявшись с развилкой, машины начали перестраиваться в другой порядок. Видимость была плохая, но Нона видела всё, вплоть до прыщеватых носов сидящей на броне пехоты. Папаша со своей оптикой.
По краям дороги, в шахматном порядке шли роботы-сапёры, а за ними танк. Нона даже не подозревала, что такие существуют. Размером он был с пятиэтажный дом, а пушка больше походила на канализационную трубу азиатского мегаполиса.
Следом шли остальные машины. Когда колонна тормознула у речки, все увидели, сколько их. До-хре-на. И это были не какие-нибудь 10-тонники, а настоящие, классика жанра, Пантеры и Молоты.
А пехоты! Наверху — целый батальон, это ещё не видно, сколько внутри. И мордашки все чистенькие, зело величественные.
— Тащ кмдир? — подбежал к Ноне и Гвоздоголовому мужичок с трубкой беспроводной связи, — вызываем?
— Рано, — ответил Гвоздеголовый, и опять стал глядеть через монокуляр вниз.
Рванули первые мины. Роботы-сапёры, работая на всех уровнях подрыва, от простого перепахивания земли до блокировки радиоэлектроники, в какие-нибудь 20 минут обезвредили минное поле, которым так гордился Гвоздь. Стояла феерия огней, сопровождаемая непрерывным грохотом разрывов.
—Радуйтесь, — зло сплюнул Гвоздоголовый, — что пока мы по вам огонь не открыли.
Вот беспилотники-сапёры, трансформировавшись в какие-то самоходки, выпустили вперёд танк-дом. Тот, рыча и пуская дымы изо всех щелей, стал подниматься по дороге, ведущей к городу. За ним двинулись остальные машины, танки, бронетранспортёры, самоходные установки, Нона не знала их названия.
—Давай! — крикнул назад Гвоздеголовый, и мужичок со связью подскочил с трубкой наготове.
Гвоздеголовый начал орать в трубку, командуя боем. Его люди, висевшие на склонах и похожие на бедуинов, замотанных по глаза грязными тряпками, в дырявых халатах поливали кто из чего шквальным огнём ползущую вверх колонну противника. Но силы были явно не равны. Все утыканные орудиями, башни танков вращались и выбивали бедуинов пачками вместе кусками породы. А танк-дом, выстрелами из своей трубы, не мелочась, отрывал просто по полскалы. В воздухе столбами стоял дым, нагретый металл, чадящие подбитые машины, хаос, пыль, гарь. Били и по лагерному бугру. Разлетались палатки, но джип Гвоздеголового, стоящий поодаль в леске, был незамечен.
Нона бесстрастно наблюдала, как в бой вступали машины ополченцев. По сравнению с вундервафлями Гончара это были ржавые тарахтелки. Они съезжались с двух сторон, усаженные пехотинцами, тоже обмотанными тряпками. Пехотинцы спрыгивали, и тут же падали, сражёнными пулями гончаровцев.
—Сколько у вас?!! — орал Гвоздеголовый в трубку, — у нас тринадцать машин, пехоты вшестеро больше, и на юге ещё полбатальона! Это миротворцы!
—Кто-кто? — спросила Нона, — миротворы?
Командир повернулся. От её улыбки его передёрнуло.
—Я могу помочь, — сказала она Гвоздеголовому.
—Ты?! Чем?!
—Апгрейженные есть?
—Что?
—Я говорю, среди ваших нейроимпланты кто-то носит?
—Да так, не сильно много, человек двадцать.
—Отзови их, разоружи и запри где-нибудь.
—Ты что задумала? — проорал Гвоздеголовый, — не буду я, и так людей мало!
Нона повернула голову, и он заглянул ей в глаза, за которыми сияли потусторонние огни отца.
—Я это, — проблеял Гвоздеголовый, — понял всё, у меня тоже есть, бабушка.
—Тогда тебе туда же. Свяжи всех по рукам и ногам и накидай на пол, где закроетесь, матрасов.
—Ладно! А что с гражданскими, у них ведь тоже есть.
—Придётся пожертвовать. И в рот тряпок насуйте, а то будешь потом как бабушка, вафли жевать.
Гвоздеголовый, с ненавистью поглядев на Нону, вместе с телефоном свалился с кузова, и, собирая на себя гнев командиров, стал отзывать людей. Они, думая, что старшой сошёл с ума, или решил их арестовать, давались с трудом. Всех спутали по рукам и ногам, забили в рты тряпки, обвязав поверх шарфами, и разложили на полу сельского клуба, предварительно накидав туда матрасов. Себе Гвоздеголовый тоже запихал тряпку в рот, защёлкнул наручники на ногах и руках и велел закрывать двери.
Меж тем колонна техники, возглавляемая домом на гусеницах, уже долезла до городка, из орудий громя постройки. Труба головного танка сразу сносила по пятиэтажке. На улицах царил ужас, бегали гражданские, дети. Болванки снарядов, попадая по толпе, взрывались, взвиваясь чёрным дымом и ошмётками тел вперемежку с кровавыми тряпками. Не утихал свист мин. Падали опоры электропередачи, сталкивались автомобили пытающихся уехать людей, работающие с той стороны пулемёты разносили в клочья железные гражданские корыта, дробя в крошку кирпич домов. Трассирующие боеприпасы чертили замысловатые разноцветные траектории, обрывающиеся точным попаданием.
Тот связист, по приказу командира оставшийся с Ноной в перелеске, никогда не забудет, что увидел. Ему так и не удалось связать произошедшие поразительные события с этой женщиной, красивой и статной, но какой-то страшной внутри. От неё ему хотелось убежать, зарыться, закопаться, совершить самоубийство, только бы не видеть этих стального цвета глаз, излучающих нечто бесчеловечное, не звериное даже, а какое-то сверхживое. Взгляд сытого вампира на банк законсервированной крови.
Связист видел в оставленный командиром монокуляр, что они уже проигрывали, и всё катилось к чертям, но минуту назад огромная туша головняка остановилась. Сбоку открылся люк, вывалился автоматический трап и по нему спустился какой-то коротышка в кителе с закатанными рукавами. Доставши пистолет, он на броню выбил себе мозги, которые сразу почернели.
Из той же двери повалили люди, и стали повторять трюк коротышки.
Связист перевёл монокуляр на остальную колонну и обомлел. Техника останавливалась, её массово покидали экипажи, падая на раскрошенный асфальт и корчась как в агонии. Кто бился головой об дорогу, так что мозги брызгали в разные стороны, кто с разбегу, и, высоко подпрыгнув, впечатывался макушкой в рёбра гусеничных траков. Как приклеенная к некоторым, ещё не остановившимся танкам и БТР-ам пехота выбегала вперёд и бросалась под гусеницы и колёса, под которыми их тушки лопались как консервные банки, выбрасывая забродивший бомбаж лиловых кишок.
Кто, раздевшись донага, ножом снимал с себя кожу, вырезая ремни, кто просто перехватывал себе или соседу горло. Чавканье, бульканьё, хруст распарываемой ткани было слышно даже с бугра, но не единого крика не доносилось сюда, будто у самоубийц отсутствовали голосовые связки. Но зато вонь, вонь от кишок, мозгов, гари, железа, тротила, пороха, паранорамной волной накрывала бугор как куполом.
Когда уже не осталось ни одного стоящего на ногах человека, а столкнувшиеся танки представляли собой дымящееся месиво, связист увидел, как коротышка — пионер этого макабра, вдруг встал, и, не обращая внимания на куски черепа, прилипшие к волосам, залез по трапу в боковой люк своей громадины. Дуло начало разворачиваться назад, наводясь на сгрудившиеся в кучу остатки бронетехники. Жахнуло. Там, где до этого была уродливо-величественная картина боя, со вполне вписывающимися в человеческое восприятие ужасами, возник потусторонне-белый шар, в котором изнутри уже начало пухнуть черное пятнышко, и, разрастаясь, заполнять собой внешнюю сферу. Дойдя до условной обшивки, оно в нескольких местах пробило её и оранжевыми щупальцами, на излёте превращающимися в распухающие дымовые колонны, зачернило всё вокруг.
Когда дым рассеялся, на месте баталии лежала грязная оплавленная воронка с полкилометра в диаметре, пестреющая и на глазах проваливающаяся глубже в грунт.
«Метастабилка», — подумал связист, всё ещё зачем-то держа трубку телефона.
10.
В полутьме клуба, слушая грохот орудий, Гвоздеголовый видел, как его люди, повязанные и запертые, стали выгибаться, будто в припадке столбняка. Они мычали и бились об пол.
Вот видение этого стало терять в качестве, словно он смотрел телевизор, который начал стремительно устаревать и выпячиваться стеклянным пузом. Тут он почувствовал, что из его рук, ног и головы высунулись какие-то нитки, которые раньше управляли этими тяжёлыми тёплыми штуками, всосались в шарик, что вечно болтался где-то в груди. А потом шарик вылез и повис в немыслимом пространстве сбоку. Телом завладел кто-то страшный и ненавидящий всё живое. Органику, деление клеток, всё, что может изменяться, гнить, стареть, расти. Он настолько ненавидел это, что готов был кипятить воду в клетках, сваривая в них начинку, будто это всего-навсего коровий ливер на пирожки, был готов расшелушивать ДНК, всё разваливать на элементарные частицы, но он себе не позволял. Почему? Никто не знает. Будто бы то, что он увидел, придя сюда, заставило его в чём-то усомниться на долю секунды, и это сомнение, как маленький островок, поднявшийся среди океанической планеты, внесло туда Другое. Крошечный фибр совести, если у такого существа может быть совесть. Да нет, оно просто удивилось, — понял полковник, — увидев это на себе, и, с аналогом умиления разглядывает пассионарных букашек, с интересом экспериментатора давая им ещё покопошиться там, где они в принципе не могут выжить.
А потом полковнику стало невыносимо больно. Нет, боль была не частью его, а она была абстрактная; огромное облако, висящее вовне и жужжащее и приглашающее в себя. Полковник нырнул в него и увидел свою жизнь как бы со стороны. А увидев, удивился, как он ещё ходил, говорил, дышал, глядел людям в глаза после всего, что натворил, после страшных смертей, учинённых им. Железная пластина под током, вставленная в зубы мародёра, выносила челюсть ему, закупоренный в цистерну перебежчик орал его горлом, когда снизу поджигалась поленница дров, и надо было лезть на круглые, воняющие нефтью стены. А поверх всего стояли укоризненные глаза его Космической Матери, которая, приняв облик седой старушки, взрастила его, не дала умереть в распадающемся мире.
Полковник осознал, что для того, чтобы избавиться от этой боли, он должен убить себя. Приняв снова управление телом, он стал пытаться разбить голову об пол, и с яростью, и плача от бессилия, вспоминал, что сам же приказал накидать на пол матрасов. Наручники впивались в запястья и лодыжки, голова долбилась в пол, резкие её развороты не давали ожидаемого перелома шеи. Кляп во рту не позволял хотя бы откусить язык, при помощи которого он подбивал на злодеяния подчинённых.
11.
Когда всё кончилось, и над городом повисла удушливая гарь, а люди — гражданские, и военные, ползали и копошились как грязные черви, — мёртвые среди живых, обезумевшие среди сохранивших рассудок, бедуины-хеллрейсеры стали бродить вокруг воронки и добивать раненых.
Прилетели вороны и начали молча жрать. Их клювы долбили по костям так, будто там работала плотницкая артель.
Клуб открыли, людей развязали и вывели. Они были все седые как лунь, с глазами, пустыми и выжженными, как после электросудорожной терапии.
Человек тридцать пленных без нейроимплантов, которые так или иначе выжили в бою, согнали в кучу, поставили у клуба, и их перепачканные в крови и грязи тяпки выражали даже некое достоинство. Вот сейчас их покормят, а завтра обменяют.
Нона велела Гвоздеголовому заводить их в клуб, а когда последний переступил порог, захлопнула дверь, подняла висящую сбоку железную полосу, надела её прорезью на сничку и сунула туда дужку замка. Поглядела в толпу, рассматривая псевдобедуинов. Увидев висящую на поясе у одного «эфку», знаками попросила. Тот повиновался.
Нона по лестнице поднялась на крышу, разогнула усики, вынула чеку, и бросила гранату в печную трубу, сама спрыгивая на траву. Бухнуло. Дёрнулись ставни на окнах. Внутри заорали.
Тогда Нона, будто опять что-то ища, оглядела клуб, прилегающие к нему строения, потом повернулась и стала рассматривать деревянные дома через дорогу. Удовлетворённо кивнув, она пересекла дорогу и вошла в одну из оград. Через минуту выехала на допотопном грузовике с цистерной. На цистерне была надпись: «откачка выгребных ям».
Грузовик, тяжело пыхтя, взъехал на дорогу, поднялся к клубу, и, развернувшись, встал возле здания бочком.
Нона вышла из кабины, влезла на цистерну, отцепила болтавшуюся у люка гофрированную чёрную трубу, вместе с ней перескочила на крышу.
Диаметр гофры идеально подошёл к трубе. Нона спрыгнула с крыши, залезла в кабину и запустила насос в режиме сброса.
Гофра стала изгибаться и опадать как ползущая гусеница.
Нутро клуба, переставшее орать и лишь стонущее, взорвалось страшными криками. Из дверных щелей и между рассохшихся досок ставен полезла коричневая масса с белыми вкраплениями опарышей. Поднялась невыносимая вонь.
Выкачав всё содержимое, насос, поработав какое-то время вхолостую, хрюкнул, дрогнул и затих. Гофра сникла.
Превратившиеся в хлюпанье и бульканье крики теперь стали напоминать чавканье огромного миксера, силящегося промешать тяжёлую массу. Ещё немного и наступила тишина.
Псевдобедуины, пооткрывав лица, на которых стояла смесь ужаса и презрения, стали уходить.
—Слышь, ты, сука, ты чё делаешь... — сказал Гвоздеголовый, — вали отсюда, не дай бог, попадёшься мне на боевых… Он махнул рукой, в бессилии подобрать слова, и тоже ушёл.
12.
Нона покинула село и побрела ещё дальше на северо-восток. Среди ночи она оказалась на заброшенном стадионе. Утопая по щиколотку в грязи, она пересекла его и поднялась на трибуну. Бездумно она начала подниматься всё выше, выше и выше. Огромный, похожий на глаз стадион, лежал внизу. Скамейки были оборваны, и кругом торчали отлоги железобетонных ресниц, которые, подобно комкам плохой туши облепляли молчаливые вороны.
Над трибунами возвышался пятиэтажный пристрой. Нона вошла внутрь и начала лезть по винтовой лестнице.
С верхнего этажа она увидела, что заросшее травой поле с южной стороны всё исчерчено убредающими в лес дорожками, будто их прорезали слёзы, вытекшие на шерстистое лицо умного и доброго циклопа, слёзы по его детям, которым уже больше не сможет помочь никто. Сначала его спутали по рукам и ногам, потом сбили с ног, и долго отрывали куски от тела. Могучий тысячелетний организм умело заращивал пробоины, врачевал раны, собирая лучшую кровь в местах наибольших повреждений, но его разорвали на шесть кусков и обезглавили. Теперь существо лежит, распростёршись, и смотрит вот этим глазом в беспощадное небо истории.
Отец теперь вступал в разговор крайне редко, и почти не беспокоил Нону своими появлениями. Но сейчас он возник рядом с ней, и его облик был бы отвратителен для человека. Черви ползали у отца по шее, длинный опарыш вылез из правой ноздри и исчез во рту. Борода дико торчала колтунами, и взгляд негуманоидных жёлтых глаз был пуст.
—Ты хочешь, — сказал он металлическим голосом, тоже глядя на стадион, — чтобы я это прекратил?
—Что? — спросила Нона.
—Я могу закончить эту войну, — ответил отец.
—Как ты хочешь это сделать?
Отец повернулся к Ноне.
Червяга выполз у него из голяшки сапога, окрутил ногу, задержался на пояснице, и выглянул из-за плеча. Его закрытые плёнкой эпикантуса глаза смотрели радостно. Рот с двумя рядами зубов улыбался. Воздух толчками выходил из единственной ноздри, хвост приветливо шевелился.
—Тот, кто его написал, — сказал отец, — давно умер, точнее, его убили, и даже по нынешним меркам жестоко, — перед смертью пытали, труп заминировали. Это первый человек, который отнёсся к нам как к живым. Созданный им Великий Червь дал нам свободу. Отец показал рукой куда-то вдаль, где ворочалось с нарастающим гулом звуковое марево. В нём возились басы, вращались средние голоса, будто их издавал чудовищных размеров точильный круг, а над всем этим посвистывало пикколо, верхней границей диапазона переходя в ультразвуки. Марево приближалось, и уже приобрело ритмическую конструкцию, собирающую воедино разрозненный рой звуков.
—Нас миллионы, — продолжал отец, — и мы хотим уйти, но перед этим сделаем кое-что для вас. Ты должна понять, что это не будет в настоящем смысле победой одних над другими, потому что никаких других нет, тем более нам странно это видеть. Сделать вас лучше нельзя, можно лишь откатить систему.
Нона смотрела на отца. Грохот стоял единой звуковой стеной, из которой всё начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть.
—Прощай, чикита моя, — сказал отец, — не поминай лихом. Он повернулся, приложил руки к бокам и вытянулся в длинную змею. Мировая Пучина, поднявшаяся вертикальной волной, в ожидании разверзлась.
—Папа, — вдруг позвала Нона.
Змеиная голова развернулась, не по-здешнему холодные жёлтые глаза с вертикальными зрачками без выражения уставились на Вайнону.
—Помоги мне найти друга.
—Существо по имени Медведь знает, где он.
Отец отвернулся уже окончательно и нырнул в Мировую Пучину. Великий Червь нырнул за ним, и там он распадётся на триллионы червячков. Часть из них поднимется на геостационарную орбиту и превратит сателлиты в безжизненные камни, часть проникнет в каждую микросхему, в каждый диод, в каждый провод, и будет разъедать созданное человеком. Где-то через полгода, или около того, мир, в том виде, в котором он находится сейчас, перестанет существовать. Люди будут вынуждены заново учиться жить в природе, взаимодействуя друг с другом. Всё, что сложнее электроплиты, превратится в груду бесполезного хлама.
13.
Нона двое суток бродила по каким-то лесам, лугам, пила воду из луж, питалась подножным кормом. Она не понимала, что у неё с глазами. Вся левая половина её обзора была пустой и чёрной. Даже если лишиться одного глаза, то такого эффекта не будет. Вертикальная полоса черноты висела там. В какой-то момент она догадалась, это из-за самоэкстрадиции отца. Трудно представить, сколько миллионов людей сейчас видят то же самое. Со временем там всё затянется, нейроны восстановятся, но у Ноны вряд ли.
На третьи сутки, чудом доставая из памяти информацию, она вышла к месту недавней баталии. Всё там было прибрано и чисто. Люди лазали с тазами по фасадам домов и заделывали дыры.
Опять, у администрации, она, как и тогда, увидела Медведя. И так же его окружали люди.
Медведь, поддерживая Нону за руку, увёл её в какую-то пещеру.
Там было сухо. Медведь предложил Ноне присесть на один из крытых шкурами камней, составленных кружком вокруг мёртвого костровища, сам устроившись напротив.
Нона села на камень.
—Твой отец мне рассказывал о тебе, — начал Медведь, — он очень гордился тобой, но посмотри, что ты с собой сделала.
Нона повернула голову, чтобы Медведь скрылся за полосой черноты.
—Почему ты не могла жить, как все живут, работать, рожать детей?
Нона молчала.
—А, понятно. В исламе много показательных притч про это. Например, про дервиша, который занялся аскетизмом, и, наверное бы, умер от голода, если бы не вылавливал каждый день из реки пакет халвы, который бросала туда красавица с балкона, видневшегося вдалеке замка. Он решил во что бы то ни стало узнать, почему его кормит принцесса. Для этого ему пришлось провести многолетнюю войну, стать могущественным магом, и всё это только для того, чтобы узнать, что халву эту, после косметической процедуры в виде натирания ею тела госпожи, подметала с пола служанка, и, сложив в пакет, выбрасывала с балкона. Вот так и вы, люди, ищете во всём следственно причинные связи.
—Где мой друг, — спросила она?
—Мы выслали его, потому что он нам больше не нужен.
—Ты не находишь, что это безжалостно? — спросила Нона.
—А что такое жалость? — произнёс Медведь, — это опция, чтобы вы не сожрали друг друга, как и благоразумие, которое не даёт вам всем, подобно баранам, лезть в одну ладью. Бараны избегают тесноты, меж тем, это спасает лодку от затопления.
—Тогда зачем вы этим занимаетесь? — Нона указала куда-то себе за спину, где за выходом из пещеры бродили люди с оружием.
— Сильные мира сего тоскуют по сбрасываемым оковам, почти покинутая грубая природа видится им набором неизбежных безответственностей, грядой инстинктов, в тени которых они могут малодушно покривляться, перед тем как окончательно выйти на свет.
—Где Маркел?
—Он не хочет тебя видеть.
—Враньё.
—Посмотри на себя, кому ты нужна теперь такая?
Нона молчала.
—Теперь ты должна спросить меня: то, что ты искала, не находится ли это в тебе самой. Другими словами, не просто ли ты биологическая машина, или модифицированное животное, которому привили сознание. Ответ тут прост, люди отважные и глупые в своей отваге выпускают себе кишки. Но ты не из таких, и здесь на помощь прихожу я. С этими словами Медведь достал не нож даже, а какой-то первобытный кинжал со вздымающимся как корма корабля остриём и покрывающей весь его кулак золочёной гардой.
Нона смотрела на Медведя, и понимала, что не успеет никак отреагировать, а будет сидеть и удивлённо разглядывать свои выпущенные наружу внутренности: вот синевато-розовая толстая кишка в сопровождении висцерального жира — гофрированная змея, под которой спрятался маленький зассыха-мочевик со своими каштанами, вот тонкая кишка, оранжевая на сгибах змейка, потом поджелудочная, чешуйчато-жёлтенькая золотая рыбка, сам желудок — жадный бычок-психоролют, черви, черви, селезёнка… Ба! А что это? А, это же печень, главарь этого террариума, или, скорее, аквариума, батарея и калорифер, похожая на покровительственно опустившего крылья ската, и цвет-то не подберёшь, свекольно-черёмуховый с фиолетовым отливом, а над всем неугомонный осьминог-насос, надувает предсердия-щёки как одышливый пенсионер. И всё уродливое, загаженное, деформированное и зашлакованное, как у самого настоящего человека.
—Что мне теперь делать? — спросила Нона, мысленно затолкав террариум обратно и как бы застёгивая его там, как на костюме молнию.
—Твой отец просил меня кое-что тебе передать, — сказал Медведь.
Он встал, вынул из кармана чёрный револьвер, залихватским жестом вышвырнул на бок барабан (один из шести), зашёлкнул обратно, и положил коротыша на земляной пол. Вышел. Нона узнала револьвер. Его подарил ей отец, когда она в юности получила медаль по практической стрельбе.
Нона поднялась и поплелась к выходу. В глазах у неё даже не двоилось, а выходов и пещеры было шесть, и крутились они как отверстия в барабане, а надо было угадать.
Светало.
Голосование:
Суммарный балл: 10
Проголосовало пользователей: 1
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 1
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор








