-- : --
Зарегистрировано — 123 106Зрителей: 66 215
Авторов: 56 891
On-line — 20 211Зрителей: 3976
Авторов: 16235
Загружено работ — 2 118 809
«Неизвестный Гений»
Блог пользователя nhtcrf
Блоги / Блог пользователя nhtcrf
Артем Троицкий
Раньше, когда к року у нас отно¬сились более опасливо, популярны были «круглые сто-лы», посвященные одиозному феномену. Прошло время, но рок — проблема остается столь же запутанной. Этот жанр («движение»? «субкультура»?) развивается в разных странах совершенно по-разному.
Начиналось, у нас, как и везде (правда с опозданием лет на десять) с пьянящего чув-ства внезапно хлы¬нувшей свободы, диких танцев и упое¬ния собственной молодостью. При этом наши с чистой совестью подражали западным рокерам, которые в свою очередь подражали своим же неграм. Однако не прошло и пяти лет, как отечественный рок стал обнару¬живать явные признаки различия.
Начнем с того, что основной «по¬сыл» любого рока — раскрепощение, сбрасывание всех и всяческих пут, не дающих молодому человеку чувствовать себя хорошо. На Западе «путами» являются прежде всего организованная религия и ее прямое порождение — так называемая «бур¬жуазная мораль». Именно по ним рок-н-ролл нанес ощутимый удар еще
в пятидесятые годы, в полный рост продемонстрировав «непристойные телодвижения», «оргазмические вы¬крики» и многое другое, не вполне совместимое с воскресной пропове-дью. Периодически (конец 60-х. конец 70-х) сознательность рокеров возрастала, они нахо-дили других врагов (военщи¬на, нацисты, истеблишмент), но ос¬новной мишенью все равно оставались довлеющие родительские «устои». Соответственно, любимый боевой клич: «Даешь секс!» — и в самой ши¬рокой амплитуде, от садо-мазохизма до самой одухотворе-нной романтики. Конфликт «Религия — секс» — мо¬тор всего западного рока, попробуй-те «отключить» его, и погаснут почти все ярчайшие звезды от Элвиса Пресли и Мика Джег-гера до Майкла Джексона и Принца. Даже от интел¬лектуалов Леннона и Дилана останут¬ся лишь бледные тени...
У нас «освободительный» призыв рока прозвучал совсем по-иному. Пресловутая «сек-суальная неудовлетворенность» в списке молодежных про¬блем оказалась далеко не глав-ной. Цой сформулировал (от обратного, правда) наше видение рока в одной из самых пер-вых своих песен:
Я не умею петь о любви,
Я не умею петь о цветах.
Но если я пою — значит, я вру.
Я не верю сам, что всё это так...
Тотальная несвобода и тотальная неправда — вот что мы чувствовали в годы зарожде-ния, и бурного подъема советского рока. И именно об этом в советском роке шла речь.
2.
Речь. Это еще одно принципиальное отличие. Эстетический стержень и главный ин-струмент западного рока — ритм, аналогичную роль в советском роке играет слово. На моих глазах в начале семидесятых происходи¬ла отмежевание нашего тогдашнего рок-авангарда от «моторной», ритмичной западной доктрины и постепенное повсеместное растворение его в стихии невеселой молодежной реф¬лексии. Рокеры от Риги до Чукотки забыли некогда священный английский и на своих родных языках запели о наболевшем. (А наболевшим было все.) Бесспорно, что заводилами этого «текстового» движения были Андрей Макаревич и «Машина времени». Честь им и хвала. С их же легкой руки неволь-но возобладала, и другая, не столь прогрессивная тенденция — пустить «побоку» музыку и качество игры. Могу засвидетельствовать, что пятна¬дцать лет назад из всех известных московских рок-групп «Машина» была самой слабой в исполнительском отношении и са-мой «незаводной».
Однако лучшие музыканты тех лет кто эмигрировал, кто спился, кто осел в ресторанах, а «корявый» Макаревич стал национальным культурным институтом. Так советская реа-ль¬ность расставила по местам приоритеты нашего рока. Главное — обме¬няться «свобод-ным словом». Строго говоря, рок был единственным в стране массовым жанром, сущее-ство¬вавшим почти целиком вне официоза и располагавшим к тому же колос¬сальной ин-фраструктурой «подполь¬ной» звукозаписи, по сравнению с ко¬торой литературный самиз-дат выглядел кустарной лавочкой.
В 80-е годы, после разгрома боль¬шинства диссидентских кружков, смер¬ти Галича и Высоцкого, роль нашего «подпольного» рока как оппозицион¬ного социокультурного дви-жения ста¬ла поистине монументальной. Пожа¬луй, на Западе рок никогда, даже в 1967 — 1969 гг., не был так важен как гражданский фактор. Ведь у нас он стал не только симво-лом независимости молодого поколения и проводником неких новых ценностей, но и во-обще единственным доступным «не-кухонным» способом сказать и услышать правду. Не удивительно, что за рок серьезно взялись — с целью скорейшего его искоренения — все заинтересованные госорганизации. С одной стороны, активно пропаганди¬ровались сурро-гаты рока («Земляне», «Группа Стаса Намина» и т. п.), с дру¬гой — был пущен в ход отла-женный репрессивный аппарат, от дежурных минкультовских клерков и возмущен¬ных, «советских композиторов» до их коллег из КГБ и МВД. Рок-община от¬вечала еще боль-шим отчуждением и изощренной конспирацией: концерты и целые рок-фестивали прохо-дили на частных квартирах и дачах, условия звукозаписи приближались к тем, в которых работали разведчики-радисты во время войны.
Совершенно естественно, что в боевой обстановке тех лет наш рок становился все бо-лее декларативным и социально ангажированным, а художественный ас¬пект отодвигался далеко на задний план. Вслед за «Машиной времени» духовным лидером движения стал «Аквариум» — четверо замечательных питерских пар¬тизан-лунатиков, органически не спо¬собных держать ритм и попадать в то¬нальность. Правда, в некоем параллель¬ном мире существовала узкая прослой¬ка профессионального филармоническо¬го рока («Автограф», «Динамик», «Кру¬из» и пр.), но их техническая компе¬тентность мало кого интересовала, по¬скольку худсоветы подрезали.эти группам язык до самого основания. Короче говоря, пафос советского рока легко укладывался в простую формулу: «Ни¬какой по форме, «кру-той» по содер¬жанию».
Эта тенденция нашла свое предель¬ное выражение — абсурдное, но абсо¬лютно логич-ное — в творчестве груп¬пы «Средне-Русская возвышенность». В этот «гиперреалистичес-кий», по за¬мыслу создателей, советский рок-ансамбль вошли полдюжины москов¬ских ху-дожников-авангардистов, вооб¬ще не умевших играть, во главе с автором-солистом Све-ном Гундлахом,. у которого нет слуха. Музыка — размашистый хард-рок, перемешанный с задушевными русско-еврейско-цыганскими мелодиями самого «бытового» пошиба. (Та-ким образом, был цели¬ком предвосхищен популярный сейчас стиль «ДДТ».) При том, что «СРВ» была «концептуальным эксперимен¬том» — то есть., грубо говоря, шут¬кой, на долю группы выпал серьез¬ный успех (включая панегирики «левых» критиков и искусствове-дов). По¬нятно злорадство Гундлаха; «Я не любил советский рок и всегда подозре¬вал, что это фактически никакая не музыка, а просто скандирование под все равно какой аккомпа-немент не¬коего текста, «залезающего» в определенные зоны — прежде всего социально-политическую и эрогенную… Наш эксперимент это доказал! Достаточно произнести в микрофон не сколько ключевых слов с нужной интонацией — и все будут, счастливы» Бу-дучи остроумнее и начитаннее большинства наших рок-авторов, Свен без труда находил эти ключевые сло¬ва, позволившие «невероятной, чу¬довищной халтуре» (определение Гун-длаха). «Средне-Русской возвы¬шенности» стать гвоздем «подполь¬ного» сезона... «Сталин-ские дома сво¬дят меня с ума». «Герои космоса жи¬вут лучше всех», «Бей жлобов — спа¬сай Россию!..» И главный хит:
Раньше мы жили на дне,
А теперь живем во сне —
В четвертом сне Веры Павловны...
Что делать и кто виноват?
Рок, кок, чок, чок!
О-о, рок, кок, чок, чок!
Рок, кок, чок, чок —
Ау — а-а!
(Жанна АГУЗАРОВА. «Желтые ботинки»)
3.
Вопрос «Кто виноват?» никогда не стоял перед нашей рок-общиной:, от¬вет на него был ясен с самого начала. Виноват «совок» (советский конфор¬мист. — Прим. ред.) во главе с пар¬тией и правительством. Сейчас можно сказать вслух суровую правду (хотя все и так ее знают, причем чиновники в первую очередь): весь мало-мальски искренний советский рок был, созна¬тельно или стихийно, сугубо антиго¬сударственным явлением. Фактически у не-го были две отправные точки: с одной стороны, уже упомянутый вольнолюбивый и радо-стный западный рок-н-ролл (для моего поколения олицетворенный в музыке «Битлз»), с другой — пороки нашей родной си¬стема (интервенция в Чехословакии убедила нас в них окончательно). Эти два полюса и создавали энергетику со¬ветского рока, причем с годами люб¬ви становилось все меньше, а нена¬висти — больше. Противостояние официозу на всех уровнях и во всех его проявлениях, от школы до «мен¬товки», от Брежнева до «Песни-82», было главнейшим стимулом жизни и творчества. Причем чем жестче ста¬новился кон-фликт, тем уютнее мы себя чувствовали. Не удивительно, скажем, что 1984 год, год мак-сималь¬ных антироковых репрессий, облав, «черных списков» и т. д., стал одновременно и едва ли не самым твор¬чески плодотворным...
И вот, гонимый, ощетинившийся, при всем арсенале «холодной войны», наш рок мягко въехал в новую об¬щественно-политическую ситуацию. Сначала по инерции с ним еще ве-лась какая-то борьба (письмо трех писате¬лей в «Правду», отмена нескольких фестива-лей...). Но теперь... Цензура практически отсутствует, концертов — сколько угодно и где угодно (был бы спрос), средства массовой информации стелятся перед «патлатыми» так же, как в свое время перед членами Союза композиторов... Нетрудно догадаться, что эта внезапная перемена климата оказала на значительную (и лучшую) часть пашей рок-тусов-ки абсолютно деморализующее воздействие. Получив все, она лиши¬лась главного — того самого нерва, смысла существования, врага, в боях с которым она крепчала.
Встает вопрос: «Что делать?». От¬вет наших рок-радикалов принципиа¬лен и туп: «Ис-кать новых врагов». Недавно я побывал на концерте ом¬ского панк-ансамбля «Гражданская оборона» — новых фаворитов полу¬интеллектуальных любителей советского рок-эпатажа. Скучно это было и неубедительно. Не более «художе¬ственно», чем «Средне-Русская воз¬вышенность», но значительно менее изобретательно, а главное — стопро¬центно, судорож-но серьезно. Гнев из¬ливался на люберов, фарцовщиков, общество «Память». Подхо-дящие ми¬шени, конечно, но мелковатые. Что это — власть предержащие?.. Они пытались заклей-мить — и это звучало как детский лепет; они пытались бро¬сить вызов — и максимум, что уда¬лось (к великой радости и гордости!), —это спровоцировать стычку пары пьяных фа-нов с дружинниками... Увы, недалеки они от народа, и очень убог их «низовой» протест!
Еще недавно рок был всамделиш¬ным бунтом, разновидностью духов¬ного диссидентства — сегодня его «революционный» потенциал котиру¬ется где-то на уровне мелкого хули¬ганства. Раньше рок был счастливой отдушиной для радикальных молодых умов — сейчас это пафос глухой «се¬рединки». Поэтому меня нисколько не удивляет, что две самые умные и острые наши группы — «Антис» и «Телевизор» — в последнее, время практически отошли от политической проблематики. Ленинградец Миша Борзыкин, лидер «Телевизора»: «На политической теме сейчас спекулиру¬ют все, кому не лень, а уж от на-шей группы и подавно ждут чего-то эда¬кого... Быть рабами собственной репу¬тации и под-делываться под ожидания толпы — это конформизм, это не наш путь. К тому же я понял, что чинов¬ники уже совершенно не боятся того, что поют рокеры». Альгис Каушпедас из «Антиса» тоже остро почувствовал недостаточность, «игрушечность» пе¬сенного вмеша-тельства в политику и, единственный из наших рок-артистов, сделал шаг в политику всам-делишную, став членом совета сейма «Саюдиса». «Практика рок-лидера, умение обраща-ться с массами людей — это очень помогло. Я провел более 150 манифестаций в респуб-лике — и вполне удачно... Это было красиво, но все же не для меня. Я точно по¬нял, что нельзя путать сцену с поли¬тической трибуной. Я в первую оче¬редь художник, а большой политикой должны заниматься профессионалы». Поэтому он решил не выдвигать свою кандидатуру в Верховный Совет... Все прочие наши социально озабоченные рокеры еще более пассивны, когда до¬ходит до настоящего дела, — и я не могу укорять их за это. На-верное, ни в одном другом поколении жизнь не воспитала такого фундаментального недо-верия к организованной политике. Это почти физическое неприятие сродни аллергии… Просвета не было.! Двадцать лет «бровады» (от, слова «брови») аккурат покрывали пер-вые двадцать лет советского рока (можно считать, они ровесники с октябрьским Плену-мом 1964-го) — и это, конечно, не шуточки.
4
«Что делать?», часть II: к чертям угрюмое наследие застойного прошло¬го, поиски вра-гов и политику, да здравствует рок как Искусство! Попу¬лярный тезис, однако воплощение его в жизнь осложняется рядом обстоя¬тельств. Самое банальное из них: нехватка (практи-чески отсутствие) у наших музыкантов электронных ин¬струментов, средств звуко и ви-део¬записи. Второе: «художественный» рок у нас приходится начинать поч¬ти с нуля. Как я уже сказал, тра¬диции советского авторского рока таковы, что он всегда был значитель¬но ближе к хорошей публицистике, чем к хорошей музыке (и вообще ис¬кусству). Наконец третий, и важней¬ший, «знак вопроса»: а пойдет ли на «художественный рок» публика? Если нет, то как же эти группы выживут.
В прежние времена вопрос о выжи¬вании стоял одинаково остро перед всеми рокерами — будь то «хэви ме¬тал», бардовский рок или авангард. Все были нелегалами, все жили небо¬гато, и на концерты ко всем ломилась изголодавшаяся публика. Сейчас все по-друго-му. Поразительный, парадок¬сальный факт: гласность и хозрасчет, две замечательные, спасительные для страны вещи оказались молотом и наковальней для красивого мифа со¬ветского рока. Свобода слова лишила его главного морального и творческо¬го стимула, коммерциализация физи¬чески, раздробила движение. (Подор¬вав, помимо прочего, доверие рок-на¬рода к его разбогатевшим лидерам.)
Понятие свободы в нашей и запад¬ной культуре всегда трактовалось не¬много поразно-му. Для западного му¬зыканта «свобода творчества» — это прежде всего независимость от де¬нег, от всевозможных инвеститоров (фирмы грамзаписи, концертные агентства, издате-льства), которые прекрасно умеют мягкими «экономиче¬скими» мерами подталкивать ар-тистов к компромиссу, придавать им более «товарный» вид. У нас же, естествен¬но, это независимость от государства, воплощенного в идеологических бон¬зах, худсоветах, цен-зорах, редакто¬рах, коллегиях, кои в меру своей тру¬сости или ограниченности (об идейной убежденности, думаю, речи нет) ука¬зывают и «улучшают». Сегодня же ситуация оказа-лась «почти запад¬ной»: с одной стороны, растерянные «инстанции», с другой — ублюдоч¬ное «совковое» подобие шоу-бизнеса, ставшее уже, на мой взгляд, боль¬шим из двух зол, обладающее боль¬шим разрушительным эффектом. Если западная система при всей ее мер¬кантильности разумна и способна ре¬гулировать музыкально-коммерческий процесс с учётом перспективы, то наши хозрасчетные «менеджеры» тво¬рят свой бизнес по принци-пу: сегодня урвать максимум, а завтра хоть тра¬ва не расти. Пещерная жадность по¬зволила им совершить невероятное: за год так перекормить публику роком, что она практически перестала посещать концерты. (Нередки случаи, когда в многотысячные дворцы спор¬та, приходят 200—300 человек!) Став¬ка делается на полтора десятка «хитовых» исполните-лей, все остальные пускаются побоку с напутствием типа: «Мы благотворительностью не занимаемся».
Строго говоря, по пальцам можно пересчитать достойные рок-группы, выигравшие от новой концертной эко¬номики: «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Кино»... Может быть, еще две-три. Приплюсуем ансамбли, обес¬печивающие себя за счет заграничных гастролей, — «АВИА», «Аукцион», «Ва-Банк», «Джунгли», «Звуки My», «Телевизор». Что до всех про-чих, то они маются в бедности и безвест¬ности, будто и не выходили из «под¬полья». Груп-па «Коллежский Асес¬сор» (одна из самых интересных в стране с музыкальной точки зре-ния) не в состоянии купить четыре билета на поезд от Киева до Москвы. Heкоторый шанс отверженным, как это ни странно дает «презренное государст¬во» (тоже, кстати, западный синдром): скажем, почти все московские панки, пост-панки, трэш-металлиеты и дру¬гие экстремисты рока нашли приют в рок-лаборатории при Управлении культуры. Это далеко не Вхутемас, но куда податься?
5.
Картина становится угрюмее с каждым месяцем. Ушел из жизни Са¬ша Башлачев — крупнейший, по-ви¬димому, рок-поэт нашего поколения. Ушли из рока талантливейшие и наиболее неожиданные художники — Антон Адасинский (ныне театр «Де¬рево»), Сергей Курехнн (киномузы¬ка, эпизодические хеппенинги), Петр Мамонов (кино, среди последних предложений — роль педагога Мака¬ренко...). В полном смятении вчераш¬ние кумиры Бу-тусов и Гребенщиков. Кажется, относительно неплохо идут дела у Кинчева, Цоя и Шевчу-ка, если не считать того, что песни их с каждым годом все больше становят¬ся похожими на самопародию (увы, то самое, о чем говорил Борзыкии), и на концерты их ходят уже не моло¬дые умники и богемианцы, а метал¬листы младшего школьного возраста и те самые люберы, которых наши рок-лидеры так не любят. Что, кста¬ти, свидетельствует о том, что пере¬рождается не только творческая ин¬фраструктура рока, но и его социальная база...
Выиграли в новой ситуации лишь те, для кого рок никогда не был духов¬ным промыс-лом, выражением жизнен¬ной позиции, но был товаром и объектом неких профессиональ-ных манипу¬ляций. Лучшие по профессии Стас Намин, Владимир Киселев («Земляне»). Их час настал — обладая навыками и хваткой, можно поставлять поп-музыку на внутренний рынок и на экспорт, смело отшвырнув в сторону орды вче¬рашних нахлебников из Минку-льта, Госконцерта, Межкниги... Что радует. Не радует другое: если в Центре Намина не-сколько интересных групп имеет¬ся (хотя ход был дан в первую очередь убогому «Парку Горького»), то конку¬рирующие организации (а конкуренция, поверьте мне, нешуточная — вплоть до рэкета и похищений) кичтоже сумнящеся штампуют инкубаторские рок-коллек-тивы, которые своей марионеточ¬ной безликостью сродни ночным кош¬марам.
«Это не рок!» У защитников чисто¬ты жанра уже готов ответ: «Это эстрада, ВИА, халту-ра, халява, про¬фанация, торгашество». Все так, но почему это не может быть и роком од-новременно? Никто, скажем, не сомневается в том, что американцы «Бон Джови» — это рок. А чем они отличаются от того же «Парка Горько¬го»? Разве что помоложе и посексу¬альнее. В остальном точно такой же ширпотреб и профанация великих Хендрикса, Клэп-тона и «Лед Зеппелин»... Я недостаточно мазохист, чтобы смотреть «Утреннюю почту» или «50x50», однако программу «Взгляд» стараюсь не пропускать, и она дает мне доста-точное представ¬ление о новой формаций «совкового» рока. Все необходимые атрибуты, на¬лицо: не только черная кожа, «джин¬са» и локоны ниже плеч, но и «со¬держание» — как нас всю жизнь об¬манывали, какой тиран был Сталин, во что сволочи страну превратили и как они же теперь тормозят пере¬стройку. Я гляжу в пустые глаза му¬зыкантов и на их зау-ченные позы, слушаю натужно-смелые тексты и чувствую во всем этом стопроцент¬ную фальшь. Однако я не имею ни¬какого права отлучать людей от вы¬бранного ими жанра то-лько на том основании, что они кажутся мне скучными и неискренними. Такая нетерпи-мость смешна и вполне в духе нашего славного аппарата... Пред¬ставляю себе картину: за-седание худсовета заслуженных деятелей и ветеранов подпольной контркульту¬ры, реша-ющих — кого мы записы¬ваем «в рок», а кого вычеркиваем... Похоже, что новое поколение вы¬бирает именно тех, кто нам не нра¬вится (начиная с «Ласкового Мая» и «Миража»). Это его право. И вовсе необязательно, кстати, что оно оста¬нется в дураках. Ведь это только се¬годня наш ширпотребный «нэп-рок» вял и неказист, но с годами, я уве¬рен, техники приба-вится, музыканты заиграют веселее и наш рок, пройдя долгий извилистый путь в потем-ках, спустя двадцать лет вновь вернется к стандартной западной формуле — «Не бери в голову! Давай станцуем». (Take it easy. Let's dance!) Хэлло, Америка!
P. S. Наше (имею в виду предста¬вителей агонизирующего «классическо¬го» совет-ского рока» право — выбирать. Можно принять новые правила «рыноч¬ного» рока. Можно остаться при «под¬польном» пафосе и тихо жить и рабо¬тать в этом гетто. Можно попробовать «завязать»... И так далее. Нельзя, ка¬жется, только одно: реани-мировать рок-движение в его прежней форме... Вот так. Посидели, погрелись, ёлы-палы... Пора расходиться по одному.
Просмотров: 594 Комментариев: 1 Перейти к комментариям
Раньше, когда к року у нас отно¬сились более опасливо, популярны были «круглые сто-лы», посвященные одиозному феномену. Прошло время, но рок — проблема остается столь же запутанной. Этот жанр («движение»? «субкультура»?) развивается в разных странах совершенно по-разному.
Начиналось, у нас, как и везде (правда с опозданием лет на десять) с пьянящего чув-ства внезапно хлы¬нувшей свободы, диких танцев и упое¬ния собственной молодостью. При этом наши с чистой совестью подражали западным рокерам, которые в свою очередь подражали своим же неграм. Однако не прошло и пяти лет, как отечественный рок стал обнару¬живать явные признаки различия.
Начнем с того, что основной «по¬сыл» любого рока — раскрепощение, сбрасывание всех и всяческих пут, не дающих молодому человеку чувствовать себя хорошо. На Западе «путами» являются прежде всего организованная религия и ее прямое порождение — так называемая «бур¬жуазная мораль». Именно по ним рок-н-ролл нанес ощутимый удар еще
в пятидесятые годы, в полный рост продемонстрировав «непристойные телодвижения», «оргазмические вы¬крики» и многое другое, не вполне совместимое с воскресной пропове-дью. Периодически (конец 60-х. конец 70-х) сознательность рокеров возрастала, они нахо-дили других врагов (военщи¬на, нацисты, истеблишмент), но ос¬новной мишенью все равно оставались довлеющие родительские «устои». Соответственно, любимый боевой клич: «Даешь секс!» — и в самой ши¬рокой амплитуде, от садо-мазохизма до самой одухотворе-нной романтики. Конфликт «Религия — секс» — мо¬тор всего западного рока, попробуй-те «отключить» его, и погаснут почти все ярчайшие звезды от Элвиса Пресли и Мика Джег-гера до Майкла Джексона и Принца. Даже от интел¬лектуалов Леннона и Дилана останут¬ся лишь бледные тени...
У нас «освободительный» призыв рока прозвучал совсем по-иному. Пресловутая «сек-суальная неудовлетворенность» в списке молодежных про¬блем оказалась далеко не глав-ной. Цой сформулировал (от обратного, правда) наше видение рока в одной из самых пер-вых своих песен:
Я не умею петь о любви,
Я не умею петь о цветах.
Но если я пою — значит, я вру.
Я не верю сам, что всё это так...
Тотальная несвобода и тотальная неправда — вот что мы чувствовали в годы зарожде-ния, и бурного подъема советского рока. И именно об этом в советском роке шла речь.
2.
Речь. Это еще одно принципиальное отличие. Эстетический стержень и главный ин-струмент западного рока — ритм, аналогичную роль в советском роке играет слово. На моих глазах в начале семидесятых происходи¬ла отмежевание нашего тогдашнего рок-авангарда от «моторной», ритмичной западной доктрины и постепенное повсеместное растворение его в стихии невеселой молодежной реф¬лексии. Рокеры от Риги до Чукотки забыли некогда священный английский и на своих родных языках запели о наболевшем. (А наболевшим было все.) Бесспорно, что заводилами этого «текстового» движения были Андрей Макаревич и «Машина времени». Честь им и хвала. С их же легкой руки неволь-но возобладала, и другая, не столь прогрессивная тенденция — пустить «побоку» музыку и качество игры. Могу засвидетельствовать, что пятна¬дцать лет назад из всех известных московских рок-групп «Машина» была самой слабой в исполнительском отношении и са-мой «незаводной».
Однако лучшие музыканты тех лет кто эмигрировал, кто спился, кто осел в ресторанах, а «корявый» Макаревич стал национальным культурным институтом. Так советская реа-ль¬ность расставила по местам приоритеты нашего рока. Главное — обме¬няться «свобод-ным словом». Строго говоря, рок был единственным в стране массовым жанром, сущее-ство¬вавшим почти целиком вне официоза и располагавшим к тому же колос¬сальной ин-фраструктурой «подполь¬ной» звукозаписи, по сравнению с ко¬торой литературный самиз-дат выглядел кустарной лавочкой.
В 80-е годы, после разгрома боль¬шинства диссидентских кружков, смер¬ти Галича и Высоцкого, роль нашего «подпольного» рока как оппозицион¬ного социокультурного дви-жения ста¬ла поистине монументальной. Пожа¬луй, на Западе рок никогда, даже в 1967 — 1969 гг., не был так важен как гражданский фактор. Ведь у нас он стал не только симво-лом независимости молодого поколения и проводником неких новых ценностей, но и во-обще единственным доступным «не-кухонным» способом сказать и услышать правду. Не удивительно, что за рок серьезно взялись — с целью скорейшего его искоренения — все заинтересованные госорганизации. С одной стороны, активно пропаганди¬ровались сурро-гаты рока («Земляне», «Группа Стаса Намина» и т. п.), с дру¬гой — был пущен в ход отла-женный репрессивный аппарат, от дежурных минкультовских клерков и возмущен¬ных, «советских композиторов» до их коллег из КГБ и МВД. Рок-община от¬вечала еще боль-шим отчуждением и изощренной конспирацией: концерты и целые рок-фестивали прохо-дили на частных квартирах и дачах, условия звукозаписи приближались к тем, в которых работали разведчики-радисты во время войны.
Совершенно естественно, что в боевой обстановке тех лет наш рок становился все бо-лее декларативным и социально ангажированным, а художественный ас¬пект отодвигался далеко на задний план. Вслед за «Машиной времени» духовным лидером движения стал «Аквариум» — четверо замечательных питерских пар¬тизан-лунатиков, органически не спо¬собных держать ритм и попадать в то¬нальность. Правда, в некоем параллель¬ном мире существовала узкая прослой¬ка профессионального филармоническо¬го рока («Автограф», «Динамик», «Кру¬из» и пр.), но их техническая компе¬тентность мало кого интересовала, по¬скольку худсоветы подрезали.эти группам язык до самого основания. Короче говоря, пафос советского рока легко укладывался в простую формулу: «Ни¬какой по форме, «кру-той» по содер¬жанию».
Эта тенденция нашла свое предель¬ное выражение — абсурдное, но абсо¬лютно логич-ное — в творчестве груп¬пы «Средне-Русская возвышенность». В этот «гиперреалистичес-кий», по за¬мыслу создателей, советский рок-ансамбль вошли полдюжины москов¬ских ху-дожников-авангардистов, вооб¬ще не умевших играть, во главе с автором-солистом Све-ном Гундлахом,. у которого нет слуха. Музыка — размашистый хард-рок, перемешанный с задушевными русско-еврейско-цыганскими мелодиями самого «бытового» пошиба. (Та-ким образом, был цели¬ком предвосхищен популярный сейчас стиль «ДДТ».) При том, что «СРВ» была «концептуальным эксперимен¬том» — то есть., грубо говоря, шут¬кой, на долю группы выпал серьез¬ный успех (включая панегирики «левых» критиков и искусствове-дов). По¬нятно злорадство Гундлаха; «Я не любил советский рок и всегда подозре¬вал, что это фактически никакая не музыка, а просто скандирование под все равно какой аккомпа-немент не¬коего текста, «залезающего» в определенные зоны — прежде всего социально-политическую и эрогенную… Наш эксперимент это доказал! Достаточно произнести в микрофон не сколько ключевых слов с нужной интонацией — и все будут, счастливы» Бу-дучи остроумнее и начитаннее большинства наших рок-авторов, Свен без труда находил эти ключевые сло¬ва, позволившие «невероятной, чу¬довищной халтуре» (определение Гун-длаха). «Средне-Русской возвы¬шенности» стать гвоздем «подполь¬ного» сезона... «Сталин-ские дома сво¬дят меня с ума». «Герои космоса жи¬вут лучше всех», «Бей жлобов — спа¬сай Россию!..» И главный хит:
Раньше мы жили на дне,
А теперь живем во сне —
В четвертом сне Веры Павловны...
Что делать и кто виноват?
Рок, кок, чок, чок!
О-о, рок, кок, чок, чок!
Рок, кок, чок, чок —
Ау — а-а!
(Жанна АГУЗАРОВА. «Желтые ботинки»)
3.
Вопрос «Кто виноват?» никогда не стоял перед нашей рок-общиной:, от¬вет на него был ясен с самого начала. Виноват «совок» (советский конфор¬мист. — Прим. ред.) во главе с пар¬тией и правительством. Сейчас можно сказать вслух суровую правду (хотя все и так ее знают, причем чиновники в первую очередь): весь мало-мальски искренний советский рок был, созна¬тельно или стихийно, сугубо антиго¬сударственным явлением. Фактически у не-го были две отправные точки: с одной стороны, уже упомянутый вольнолюбивый и радо-стный западный рок-н-ролл (для моего поколения олицетворенный в музыке «Битлз»), с другой — пороки нашей родной си¬стема (интервенция в Чехословакии убедила нас в них окончательно). Эти два полюса и создавали энергетику со¬ветского рока, причем с годами люб¬ви становилось все меньше, а нена¬висти — больше. Противостояние официозу на всех уровнях и во всех его проявлениях, от школы до «мен¬товки», от Брежнева до «Песни-82», было главнейшим стимулом жизни и творчества. Причем чем жестче ста¬новился кон-фликт, тем уютнее мы себя чувствовали. Не удивительно, скажем, что 1984 год, год мак-сималь¬ных антироковых репрессий, облав, «черных списков» и т. д., стал одновременно и едва ли не самым твор¬чески плодотворным...
И вот, гонимый, ощетинившийся, при всем арсенале «холодной войны», наш рок мягко въехал в новую об¬щественно-политическую ситуацию. Сначала по инерции с ним еще ве-лась какая-то борьба (письмо трех писате¬лей в «Правду», отмена нескольких фестива-лей...). Но теперь... Цензура практически отсутствует, концертов — сколько угодно и где угодно (был бы спрос), средства массовой информации стелятся перед «патлатыми» так же, как в свое время перед членами Союза композиторов... Нетрудно догадаться, что эта внезапная перемена климата оказала на значительную (и лучшую) часть пашей рок-тусов-ки абсолютно деморализующее воздействие. Получив все, она лиши¬лась главного — того самого нерва, смысла существования, врага, в боях с которым она крепчала.
Встает вопрос: «Что делать?». От¬вет наших рок-радикалов принципиа¬лен и туп: «Ис-кать новых врагов». Недавно я побывал на концерте ом¬ского панк-ансамбля «Гражданская оборона» — новых фаворитов полу¬интеллектуальных любителей советского рок-эпатажа. Скучно это было и неубедительно. Не более «художе¬ственно», чем «Средне-Русская воз¬вышенность», но значительно менее изобретательно, а главное — стопро¬центно, судорож-но серьезно. Гнев из¬ливался на люберов, фарцовщиков, общество «Память». Подхо-дящие ми¬шени, конечно, но мелковатые. Что это — власть предержащие?.. Они пытались заклей-мить — и это звучало как детский лепет; они пытались бро¬сить вызов — и максимум, что уда¬лось (к великой радости и гордости!), —это спровоцировать стычку пары пьяных фа-нов с дружинниками... Увы, недалеки они от народа, и очень убог их «низовой» протест!
Еще недавно рок был всамделиш¬ным бунтом, разновидностью духов¬ного диссидентства — сегодня его «революционный» потенциал котиру¬ется где-то на уровне мелкого хули¬ганства. Раньше рок был счастливой отдушиной для радикальных молодых умов — сейчас это пафос глухой «се¬рединки». Поэтому меня нисколько не удивляет, что две самые умные и острые наши группы — «Антис» и «Телевизор» — в последнее, время практически отошли от политической проблематики. Ленинградец Миша Борзыкин, лидер «Телевизора»: «На политической теме сейчас спекулиру¬ют все, кому не лень, а уж от на-шей группы и подавно ждут чего-то эда¬кого... Быть рабами собственной репу¬тации и под-делываться под ожидания толпы — это конформизм, это не наш путь. К тому же я понял, что чинов¬ники уже совершенно не боятся того, что поют рокеры». Альгис Каушпедас из «Антиса» тоже остро почувствовал недостаточность, «игрушечность» пе¬сенного вмеша-тельства в политику и, единственный из наших рок-артистов, сделал шаг в политику всам-делишную, став членом совета сейма «Саюдиса». «Практика рок-лидера, умение обраща-ться с массами людей — это очень помогло. Я провел более 150 манифестаций в респуб-лике — и вполне удачно... Это было красиво, но все же не для меня. Я точно по¬нял, что нельзя путать сцену с поли¬тической трибуной. Я в первую оче¬редь художник, а большой политикой должны заниматься профессионалы». Поэтому он решил не выдвигать свою кандидатуру в Верховный Совет... Все прочие наши социально озабоченные рокеры еще более пассивны, когда до¬ходит до настоящего дела, — и я не могу укорять их за это. На-верное, ни в одном другом поколении жизнь не воспитала такого фундаментального недо-верия к организованной политике. Это почти физическое неприятие сродни аллергии… Просвета не было.! Двадцать лет «бровады» (от, слова «брови») аккурат покрывали пер-вые двадцать лет советского рока (можно считать, они ровесники с октябрьским Плену-мом 1964-го) — и это, конечно, не шуточки.
4
«Что делать?», часть II: к чертям угрюмое наследие застойного прошло¬го, поиски вра-гов и политику, да здравствует рок как Искусство! Попу¬лярный тезис, однако воплощение его в жизнь осложняется рядом обстоя¬тельств. Самое банальное из них: нехватка (практи-чески отсутствие) у наших музыкантов электронных ин¬струментов, средств звуко и ви-део¬записи. Второе: «художественный» рок у нас приходится начинать поч¬ти с нуля. Как я уже сказал, тра¬диции советского авторского рока таковы, что он всегда был значитель¬но ближе к хорошей публицистике, чем к хорошей музыке (и вообще ис¬кусству). Наконец третий, и важней¬ший, «знак вопроса»: а пойдет ли на «художественный рок» публика? Если нет, то как же эти группы выживут.
В прежние времена вопрос о выжи¬вании стоял одинаково остро перед всеми рокерами — будь то «хэви ме¬тал», бардовский рок или авангард. Все были нелегалами, все жили небо¬гато, и на концерты ко всем ломилась изголодавшаяся публика. Сейчас все по-друго-му. Поразительный, парадок¬сальный факт: гласность и хозрасчет, две замечательные, спасительные для страны вещи оказались молотом и наковальней для красивого мифа со¬ветского рока. Свобода слова лишила его главного морального и творческо¬го стимула, коммерциализация физи¬чески, раздробила движение. (Подор¬вав, помимо прочего, доверие рок-на¬рода к его разбогатевшим лидерам.)
Понятие свободы в нашей и запад¬ной культуре всегда трактовалось не¬много поразно-му. Для западного му¬зыканта «свобода творчества» — это прежде всего независимость от де¬нег, от всевозможных инвеститоров (фирмы грамзаписи, концертные агентства, издате-льства), которые прекрасно умеют мягкими «экономиче¬скими» мерами подталкивать ар-тистов к компромиссу, придавать им более «товарный» вид. У нас же, естествен¬но, это независимость от государства, воплощенного в идеологических бон¬зах, худсоветах, цен-зорах, редакто¬рах, коллегиях, кои в меру своей тру¬сости или ограниченности (об идейной убежденности, думаю, речи нет) ука¬зывают и «улучшают». Сегодня же ситуация оказа-лась «почти запад¬ной»: с одной стороны, растерянные «инстанции», с другой — ублюдоч¬ное «совковое» подобие шоу-бизнеса, ставшее уже, на мой взгляд, боль¬шим из двух зол, обладающее боль¬шим разрушительным эффектом. Если западная система при всей ее мер¬кантильности разумна и способна ре¬гулировать музыкально-коммерческий процесс с учётом перспективы, то наши хозрасчетные «менеджеры» тво¬рят свой бизнес по принци-пу: сегодня урвать максимум, а завтра хоть тра¬ва не расти. Пещерная жадность по¬зволила им совершить невероятное: за год так перекормить публику роком, что она практически перестала посещать концерты. (Нередки случаи, когда в многотысячные дворцы спор¬та, приходят 200—300 человек!) Став¬ка делается на полтора десятка «хитовых» исполните-лей, все остальные пускаются побоку с напутствием типа: «Мы благотворительностью не занимаемся».
Строго говоря, по пальцам можно пересчитать достойные рок-группы, выигравшие от новой концертной эко¬номики: «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Кино»... Может быть, еще две-три. Приплюсуем ансамбли, обес¬печивающие себя за счет заграничных гастролей, — «АВИА», «Аукцион», «Ва-Банк», «Джунгли», «Звуки My», «Телевизор». Что до всех про-чих, то они маются в бедности и безвест¬ности, будто и не выходили из «под¬полья». Груп-па «Коллежский Асес¬сор» (одна из самых интересных в стране с музыкальной точки зре-ния) не в состоянии купить четыре билета на поезд от Киева до Москвы. Heкоторый шанс отверженным, как это ни странно дает «презренное государст¬во» (тоже, кстати, западный синдром): скажем, почти все московские панки, пост-панки, трэш-металлиеты и дру¬гие экстремисты рока нашли приют в рок-лаборатории при Управлении культуры. Это далеко не Вхутемас, но куда податься?
5.
Картина становится угрюмее с каждым месяцем. Ушел из жизни Са¬ша Башлачев — крупнейший, по-ви¬димому, рок-поэт нашего поколения. Ушли из рока талантливейшие и наиболее неожиданные художники — Антон Адасинский (ныне театр «Де¬рево»), Сергей Курехнн (киномузы¬ка, эпизодические хеппенинги), Петр Мамонов (кино, среди последних предложений — роль педагога Мака¬ренко...). В полном смятении вчераш¬ние кумиры Бу-тусов и Гребенщиков. Кажется, относительно неплохо идут дела у Кинчева, Цоя и Шевчу-ка, если не считать того, что песни их с каждым годом все больше становят¬ся похожими на самопародию (увы, то самое, о чем говорил Борзыкии), и на концерты их ходят уже не моло¬дые умники и богемианцы, а метал¬листы младшего школьного возраста и те самые люберы, которых наши рок-лидеры так не любят. Что, кста¬ти, свидетельствует о том, что пере¬рождается не только творческая ин¬фраструктура рока, но и его социальная база...
Выиграли в новой ситуации лишь те, для кого рок никогда не был духов¬ным промыс-лом, выражением жизнен¬ной позиции, но был товаром и объектом неких профессиональ-ных манипу¬ляций. Лучшие по профессии Стас Намин, Владимир Киселев («Земляне»). Их час настал — обладая навыками и хваткой, можно поставлять поп-музыку на внутренний рынок и на экспорт, смело отшвырнув в сторону орды вче¬рашних нахлебников из Минку-льта, Госконцерта, Межкниги... Что радует. Не радует другое: если в Центре Намина не-сколько интересных групп имеет¬ся (хотя ход был дан в первую очередь убогому «Парку Горького»), то конку¬рирующие организации (а конкуренция, поверьте мне, нешуточная — вплоть до рэкета и похищений) кичтоже сумнящеся штампуют инкубаторские рок-коллек-тивы, которые своей марионеточ¬ной безликостью сродни ночным кош¬марам.
«Это не рок!» У защитников чисто¬ты жанра уже готов ответ: «Это эстрада, ВИА, халту-ра, халява, про¬фанация, торгашество». Все так, но почему это не может быть и роком од-новременно? Никто, скажем, не сомневается в том, что американцы «Бон Джови» — это рок. А чем они отличаются от того же «Парка Горько¬го»? Разве что помоложе и посексу¬альнее. В остальном точно такой же ширпотреб и профанация великих Хендрикса, Клэп-тона и «Лед Зеппелин»... Я недостаточно мазохист, чтобы смотреть «Утреннюю почту» или «50x50», однако программу «Взгляд» стараюсь не пропускать, и она дает мне доста-точное представ¬ление о новой формаций «совкового» рока. Все необходимые атрибуты, на¬лицо: не только черная кожа, «джин¬са» и локоны ниже плеч, но и «со¬держание» — как нас всю жизнь об¬манывали, какой тиран был Сталин, во что сволочи страну превратили и как они же теперь тормозят пере¬стройку. Я гляжу в пустые глаза му¬зыкантов и на их зау-ченные позы, слушаю натужно-смелые тексты и чувствую во всем этом стопроцент¬ную фальшь. Однако я не имею ни¬какого права отлучать людей от вы¬бранного ими жанра то-лько на том основании, что они кажутся мне скучными и неискренними. Такая нетерпи-мость смешна и вполне в духе нашего славного аппарата... Пред¬ставляю себе картину: за-седание худсовета заслуженных деятелей и ветеранов подпольной контркульту¬ры, реша-ющих — кого мы записы¬ваем «в рок», а кого вычеркиваем... Похоже, что новое поколение вы¬бирает именно тех, кто нам не нра¬вится (начиная с «Ласкового Мая» и «Миража»). Это его право. И вовсе необязательно, кстати, что оно оста¬нется в дураках. Ведь это только се¬годня наш ширпотребный «нэп-рок» вял и неказист, но с годами, я уве¬рен, техники приба-вится, музыканты заиграют веселее и наш рок, пройдя долгий извилистый путь в потем-ках, спустя двадцать лет вновь вернется к стандартной западной формуле — «Не бери в голову! Давай станцуем». (Take it easy. Let's dance!) Хэлло, Америка!
P. S. Наше (имею в виду предста¬вителей агонизирующего «классическо¬го» совет-ского рока» право — выбирать. Можно принять новые правила «рыноч¬ного» рока. Можно остаться при «под¬польном» пафосе и тихо жить и рабо¬тать в этом гетто. Можно попробовать «завязать»... И так далее. Нельзя, ка¬жется, только одно: реани-мировать рок-движение в его прежней форме... Вот так. Посидели, погрелись, ёлы-палы... Пора расходиться по одному.
Приключения рок-н-ролла в стране большевиков
Артем Троицкий
Раньше, когда к року у нас отно¬сились более опасливо, популярны были «круглые столы», посвященные одиозному феномену. Прошло время, но рок — проблема остается столь же запутанной. Этот жанр («движение»? «субкультура»?) развивается в разных странах совершенно по-разному.
Начиналось, у нас, как и везде (правда с опозданием лет на десять) с пьянящего чувства внезапно хлы¬нувшей свободы, диких танцев и упое¬ния собственной молодостью. При этом наши с чистой совестью подражали западным рокерам, которые в свою очередь подражали своим же неграм. Однако не прошло и пяти лет, как отечественный рок стал обнару¬живать явные признаки различия.
Начнем с того, что основной «по¬сыл» любого рока — раскрепощение, сбрасывание всех и всяческих пут, не дающих молодому человеку чувствовать себя хорошо. На Западе «путами» являются прежде всего организованная религия и ее прямое порождение — так называемая «бур¬жуазная мораль». Именно по ним рок-н-ролл нанес ощутимый удар еще
в пятидесятые годы, в полный рост продемонстрировав «непристойные телодвижения», «оргазмические вы¬крики» и многое другое, не вполне совместимое с воскресной проповедью. Периодически (конец 60-х. конец 70-х) сознательность рокеров возрастала, они находили других врагов (военщи¬на, нацисты, истеблишмент), но ос¬новной мишенью все равно оставались довлеющие родительские «устои». Соответственно, любимый боевой клич: «Даешь секс!» — и в самой ши¬рокой амплитуде, от садо-мазохизма до самой одухотворенной романтики. Конфликт «Религия — секс» — мо¬тор всего западного рока, попробуйте «отключить» его, и погаснут почти все ярчайшие звезды от Элвиса Пресли и Мика Джеггера до Майкла Джексона и Принца. Даже от интел¬лектуалов Леннона и Дилана останут¬ся лишь бледные тени...
У нас «освободительный» призыв рока прозвучал совсем по-иному. Пресловутая «сексуальная неудовлетворенность» в списке молодежных про¬блем оказалась далеко не главной. Цой сформулировал (от обратного, правда) наше видение рока в одной из самых первых своих песен:
Я не умею петь о любви,
Я не умею петь о цветах.
Но если я пою — значит, я вру.
Я не верю сам, что всё это так...
Тотальная несвобода и тотальная неправда — вот что мы чувствовали в годы зарождения, и бурного подъема советского рока. И именно об этом в советском роке шла речь.
2.
Речь. Это еще одно принципиальное отличие. Эстетический стержень и главный инструмент западного рока — ритм, аналогичную роль в советском роке играет слово. На моих глазах в начале семидесятых происходи¬ла отмежевание нашего тогдашнего рок-авангарда от «моторной», ритмичной западной доктрины и постепенное повсеместное растворение его в стихии невеселой молодежной реф¬лексии. Рокеры от Риги до Чукотки забыли некогда священный английский и на своих родных языках запели о наболевшем. (А наболевшим было все.) Бесспорно, что заводилами этого «текстового» движения были Андрей Макаревич и «Машина времени». Честь им и хвала. С их же легкой руки невольно возобладала, и другая, не столь прогрессивная тенденция — пустить «побоку» музыку и качество игры. Могу засвидетельствовать, что пятна¬дцать лет назад из всех известных московских рок-групп «Машина» была самой слабой в исполнительском отношении и самой «не-заводной».
Однако лучшие музыканты тех лет кто эмигрировал, кто спился, кто осел в ресторанах, а «корявый» Макаревич стал национальным культурным институтом. Так советская реаль¬ность расставила по местам приоритеты нашего рока. Главное — обме¬няться «свободным словом». Строго говоря, рок был единственным в стране массовым жанром, существо¬вавшим почти целиком вне официоза и располагавшим к тому же колос¬сальной инфраструктурой «подполь¬ной» звукозаписи, по сравнению с ко¬торой литературный самиздат выглядел кустарной лавочкой.
В 80-е годы, после разгрома боль¬шинства диссидентских кружков, смер¬ти Галича и Высоцкого, роль нашего «подпольного» рока как оппозицион¬ного социокультурного движения ста¬ла поистине монументальной. Пожа¬луй, на Западе рок никогда, даже в 1967 — 1969 гг., не был так важен как гражданский фактор. Ведь у нас он стал не только символом независимости молодого поколения и проводником неких новых ценностей, но и вообще единственным доступным «не-кухонным» способом сказать и услышать правду. Не удивительно, что за рок серьезно взялись — с целью скорейшего его искоренения —все заинтересованные госорганизации. С одной стороны, активно пропаганди¬ровались суррогаты рока («Земляне», «Группа Стаса Намина» и т. п.), с дру¬гой — был пущен в ход отлаженный репрессивный аппарат, от дежурных минкультовских клерков и возмущен¬ных, «советских композиторов» до их коллег из КГБ и МВД. Рок-община от¬вечала еще большим отчуждением и изощренной конспирацией: концерты и целые рок-фестивали проходили на частных квартирах и дачах, условия звукозаписи приближались к тем, в которых работали разведчики-радисты во время войны.
Совершенно естественно, что в боевой обстановке тех лет наш рок становился все более декларативным и социально ангажированным, а художественный ас¬пект отодвигался далеко на задний план. Вслед за «Машиной времени» духовным лидером движения стал «Аквариум» — четверо замечательных питерских пар¬тизан-лунатиков, органически не спо¬собных держать ритм и попадать в то¬нальность. Правда, в некоем параллель¬ном мире существовала узкая прослой¬ка профессионального филармоническо¬го рока («Автограф», «Динамик», «Кру¬из» и пр.), но их техническая компе¬тентность мало кого интересовала, по¬скольку худсоветы подрезали.эти группам язык до самого основания. Короче говоря, пафос советского рока легко укладывался в простую формулу: «Ни¬какой по форме, «крутой» по содер¬жанию».
Эта тенденция нашла свое предель¬ное выражение — абсурдное, но абсо¬лютно логичное — в творчестве груп¬пы «Средне-Русская возвышенность». В этот «гиперреалистический», по за¬мыслу создателей, советский рок-ансамбль вошли полдюжины москов¬ских художников-авангардистов, вооб¬ще не умевших играть, во главе с автором-солистом Свеном Гундлахом,. у которого нет слуха. Музыка — размашистый хард-рок, перемешанный с задушевными русско-еврейско-цыганскими мелодиями самого «бытового» пошиба. (Таким образом, был цели¬ком предвосхищен популярный сейчас стиль «ДДТ».) При том, что «СРВ» была «концептуальным эксперимен¬том» — то есть., грубо говоря, шут¬кой, на долю группы выпал серьез¬ный успех (включая панегирики «левых» критиков и искусствоведов). По¬нятно злорадство Гундлаха; «Я не любил советский рок и всегда подозре¬вал, что это фактически никакая не музыка, а просто скандирование под все равно какой аккомпанемент не¬коего текста, «залезающего» в определенные зоны — прежде всего социально-политическую и эрогенную… Наш эксперимент это доказал! Достаточно произнести в микрофон не сколько ключевых слов с нужной интонацией — и все будут, счастливы» Будучи остроумнее и начитаннее большинства наших рок-авторов, Свен без труда находил эти ключевые сло¬ва, позволившие «невероятной, чу¬довищной халтуре» (определение Гундлаха). «Средне-Русской возвы¬шенности» стать гвоздем «подполь¬ного» сезона... «Сталинские дома сво¬дят меня с ума». «Герои космоса жи¬вут лучше всех», «Бей жлобов — спа¬сай Россию!..» И главный хит:
Раньше мы жили на дне,
А теперь живем во сне —
В четвертом сне Веры Павловны...
Что делать и кто виноват?
Рок, кок, чок, чок!
О-о, рок, кок, чок, чок!
Рок, кок, чок, чок —
Ау — а-а!
(Жанна АГУЗАРОВА. «Желтые ботинки»)
3.
Вопрос «Кто виноват?» никогда не стоял перед нашей рок-общиной:, от¬вет на него был ясен с самого начала. Виноват «совок» (советский конфор¬мист. — Прим. ред.) во главе с пар¬тией и правительством. Сейчас можно сказать вслух суровую правду (хотя все и так ее знают, причем чиновники в первую очередь): весь мало-мальски искренний советский рок был, созна¬тельно или стихийно, сугубо антиго¬сударственным явлением. Фактически у него были две отправные точки: с одной стороны, уже упомянутый вольнолюбивый и радостный западный рок-н-ролл (для моего поколения олицетворенный в музыке «Битлз»), с другой — пороки нашей родной си¬стема (интервенция в Чехословакии убедила нас в них окончательно). Эти два полюса и создавали энергетику со¬ветского рока, причем с годами люб¬ви становилось все меньше, а нена¬висти — больше. Противостояние официозу на всех уровнях и во всех его проявлениях, от школы до «мен¬товки», от Брежнева до «Песни-82», было главнейшим стимулом жизни и творчества. Причем чем жестче ста¬новился конфликт, тем уютнее мы себя чувствовали. Не удивительно, скажем, что 1984 год, год максималь¬ных антироковых репрессий, облав, «черных списков» и т. д., стал одновременно и едва ли не самым твор¬чески плодотворным...
И вот, гонимый, ощетинившийся, при всем арсенале «холодной войны», наш рок мягко въехал в новую об¬щественно-политическую ситуацию. Сначала по инерции с ним еще велась какая-то борьба (письмо трех писате¬лей в «Правду», отмена нескольких фестивалей...). Но теперь... Цензура практически отсутствует, концертов — сколько угодно и где угодно (был бы спрос), средства массовой информации стелятся перед «патлатыми» так же, как в свое время перед членами Союза композиторов... Нетрудно догадаться, что эта внезапная перемена климата оказала на значительную (и лучшую) часть пашей рок-тусовки абсолютно деморализующее воздействие. Получив все, она лиши¬лась главного — того самого нерва, смысла существования, врага, в боях с которым она крепчала.
Встает вопрос: «Что делать?». От¬вет наших рок-радикалов принципиа¬лен и туп: «Искать новых врагов». Недавно я побывал на концерте ом¬ского панк-ансамбля «Гражданская оборона» — новых фаворитов полу¬интеллектуальных любителей советского рок-эпатажа. Скучно это было и неубедительно. Не более «художе¬ственно», чем «Средне-Русская воз¬вышенность», но значительно менее изобретательно, а главное — стопро¬центно, судорожно серьезно. Гнев из¬ливался на люберов, фарцовщиков, общество «Память». Подходящие ми¬шени, конечно, но мелковатые. Что это — власть предержащие?.. Они пытались заклеймить — и это звучало как детский лепет; они пытались бро¬сить вызов — и максимум, что уда¬лось (к великой радости и гордости!), —это спровоцировать стычку пары пьяных фанов с дружинниками... Увы, недалеки они от народа, и очень убог их «низовой» протест!
Еще недавно рок был всамделиш¬ным бунтом, разновидностью духов¬ного диссидентства — сегодня его «революционный» потенциал котиру¬ется где-то на уровне мелкого хули¬ганства. Раньше рок был счастливой отдушиной для радикальных молодых умов — сейчас это пафос глухой «се¬рединки». Поэтому меня нисколько не удивляет, что две самые умные и острые наши группы — «Антис» и «Телевизор» — в последнее, время практически отошли от политической проблематики. Ленинградец Миша Борзыкин, лидер «Телевизора»: «На политической теме сейчас спекулиру¬ют все, кому не лень, а уж от нашей группы и подавно ждут чего-то эда¬кого... Быть рабами собственной репу¬тации и подделываться под ожидания толпы — это конформизм, это не наш путь. К тому же я понял, что чинов¬ники уже совершенно не боятся того, что поют рокеры». Альгис Каушпедас из «Антиса» тоже остро почувствовал недостаточность, «игрушечность» пе¬сенного вмешательства в политику и, единственный из наших рок-артистов, сделал шаг в политику всамделишную, став членом совета сейма «Саюдиса». «Практика рок-лидера, умение обращаться с массами людей — это очень помогло. Я провел более 150 манифестаций в республике — и вполне удачно... Это было красиво, но все же не для меня. Я точно по¬нял, что нельзя путать сцену с поли¬тической трибуной. Я в первую оче¬редь художник, а большой политикой должны заниматься профессионалы». Поэтому он решил не выдвигать свою кандидатуру в Верховный Совет... Все прочие наши социально озабоченные рокеры еще более пассивны, когда до¬ходит до настоящего дела, — и я не могу укорять их за это. Наверное, ни в одном другом поколении жизнь не воспитала такого фундаментального недоверия к организованной политике. Это почти физическое неприятие сродни аллергии… Просвета не было.! Двадцать лет «бровады» (от, слова «брови») аккурат покрывали первые двадцать лет советского рока (можно считать, они ровесники с октябрьским Пленумом 1964-го) — и это, конечно, не шуточки.
4
«Что делать?», часть II: к чертям угрюмое наследие застойного прошло¬го, поиски врагов и политику, да здравствует рок как Искусство! Попу¬лярный тезис, однако воплощение его в жизнь осложняется рядом обстоя¬тельств. Самое банальное из них: нехватка (практически отсутствие) у наших музыкантов электронных ин¬струментов, средств звуко и видео¬записи. Второе: «художественный» рок у нас приходится начинать поч¬ти с нуля. Как я уже сказал, тра¬диции советского авторского рока таковы, что он всегда был значитель¬но ближе к хорошей публицистике, чем к хорошей музыке (и вообще ис¬кусству). Наконец третий, и важней¬ший, «знак вопроса»: а пойдет ли на «художественный рок» публика? Если нет, то как же эти группы выживут.
В прежние времена вопрос о выжи¬вании стоял одинаково остро перед всеми рокерами — будь то «хэви ме¬тал», бардовский рок или авангард. Все были нелегалами, все жили небо¬гато, и на концерты ко всем ломилась изголодавшаяся публика. Сейчас все
по-другому. Поразительный, парадок¬сальный факт: гласность и хозрасчет, две замечательные, спасительные для страны вещи оказались молотом и наковальней для красивого мифа со¬ветского рока. Свобода слова лишила его главного морального и творческо¬го стимула, коммерциализация физи¬чески, раздробила движение. (Подор¬вав, помимо прочего, доверие рок-на¬рода к его разбогатевшим лидерам.)
Понятие свободы в нашей и запад¬ной культуре всегда трактовалось не¬много по-разному. Для западного му¬зыканта «свобода творчества» — это прежде всего независимость от де¬нег, от всевозможных инвеститоров (фирмы грамзаписи, концертные агентства, издательства), которые прекрасно умеют мягкими «экономиче¬скими» мерами подталкивать артистов к компромиссу, придавать им более «товарный» вид. У нас же, естествен¬но, это независимость от государства, воплощенного в идеологических бон¬зах, худсоветах, цензорах, редакто¬рах, коллегиях, кои в меру своей тру¬сости или ограниченности (об идейной убежденности, думаю, речи нет) ука¬зывают и «улучшают». Сегодня же ситуация оказалась «почти запад¬ной»: с одной стороны, растерянные «инстанции», с другой — ублюдоч¬ное «совковое» подобие шоу-бизнеса, ставшее уже, на мой взгляд, боль¬шим из двух зол, обладающее боль¬шим разрушительным эффектом. Если западная система при всей ее мер¬кантильности разумна и способна ре¬гулировать музыкально-коммерческий процесс с учётом перспективы, то наши хозрасчетные «менеджеры» тво¬рят свой бизнес по принципу: сегодня урвать максимум, а завтра хоть тра¬ва не расти. Пещерная жадность по¬зволила им совершить невероятное: за год так перекормить публику роком, что она практически перестала посещать концерты. (Нередки случаи, когда в многотысячные дворцы спор¬та, приходят 200—300 человек!) Став¬ка делается на полтора десятка «хитовых» исполнителей, все остальные пускаются побоку с напутствием типа: «Мы благотворительностью не занимаемся».
Строго говоря, по пальцам можно пересчитать достойные рок-группы, выигравшие от новой концертной эко¬номики: «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Кино»... Может быть, еще две-три. Приплюсуем ансамбли, обес¬печивающие себя за счет заграничных гастролей, — «АВИА», «Аукцион», «Ва-Банк», «Джунгли», «Звуки My», «Телевизор». Что до всех прочих, то они маются в бедности и безвест¬ности, будто и не выходили из «под¬полья». Группа «Коллежский Асес¬сор» (одна из самых интересных в стране с музыкальной точки зрения) не в состоянии купить четыре билета на поезд от Киева до Москвы. Heкоторый шанс отверженным, как это ни странно дает «презренное государст¬во» (тоже, кстати, западный синдром): скажем, почти все московские панки, пост-панки, трэш-металлиеты и дру¬гие экстремисты рока нашли приют в рок-лаборатории при Управлении культуры. Это далеко не Вхутемас, но куда податься?
5.
Картина становится угрюмее с каждым месяцем. Ушел из жизни Са¬ша Башлачев — крупнейший, по-ви¬димому, рок-поэт нашего поколения. Ушли из рока талантливейшие и наиболее неожиданные художники — Антон Адасинский (ныне театр «Де¬рево»), Сергей Курехнн (киномузы¬ка, эпизодические хеппенинги), Петр Мамонов (кино, среди последних предложений — роль педагога Мака¬ренко...). В полном смятении вчераш¬ние кумиры Бутусов и Гребенщиков. Кажется, относительно неплохо идут дела у Кинчева, Цоя и Шевчука, если не считать того, что песни их с каждым годом все больше становят¬ся похожими на самопародию (увы, то самое, о чем говорил Борзыкии), и на концерты их ходят уже не моло¬дые умники и богемианцы, а метал¬листы младшего школьного возраста и те самые люберы, которых наши рок-лидеры так не любят. Что, кста¬ти, свидетельствует о том, что пере¬рождается не только творческая ин¬фраструктура рока, но и его социальная база...
Выиграли в новой ситуации лишь те, для кого рок никогда не был духов¬ным промыслом, выражением жизнен¬ной позиции, но был товаром и объектом неких профессиональных манипу¬ляций. Лучшие по профессии Стас Намин, Владимир Киселев («Земляне»). Их час настал — обладая навыками и хваткой, можно поставлять поп-музыку на внутренний рынок и на экспорт, смело отшвырнув в сторону орды вче¬рашних нахлебников из Минкульта, Госконцерта, Межкниги... Что радует. Не радует другое: если в Центре Намина несколько интересных групп имеет¬ся (хотя ход был дан в первую очередь убогому «Парку Горького»), то конку¬рирующие организации (а конкуренция, поверьте мне, нешуточная — вплоть до рэкета и похищений) кичтоже сумнящеся штампуют инкубаторские рок-коллективы, которые своей марионеточ¬ной безликостью сродни ночным кош¬марам.
«Это не рок!» У защитников чисто¬ты жанра уже готов ответ: «Это эстрада, ВИА, халтура, халява, про¬фанация, торгашество». Все так, но почему это не может быть и роком одновременно? Никто, скажем, не сомневается в том, что американцы «Бон Джови» — это рок. А чем они отличаются от того же «Парка Горько¬го»? Разве что помоложе и посексу¬альнее. В остальном точно такой же ширпотреб и профанация великих Хендрикса, Клэптона и «Лед Зеппелин»... Я недостаточно мазохист, чтобы смотреть «Утреннюю почту» или «50x50», однако программу «Взгляд» стараюсь не пропускать, и она дает мне достаточное представ¬ление о новой формаций «совкового» рока. Все необходимые атрибуты, на¬лицо: не только черная кожа, «джин¬са» и локоны ниже плеч, но и «со¬держание» — как нас всю жизнь об¬манывали, какой тиран был Сталин, во что сволочи страну превратили и как они же теперь тормозят пере¬стройку. Я гляжу в пустые глаза му¬зыкантов и на их заученные позы, слушаю натужно-смелые тексты и чувствую во всем этом стопроцент¬ную фальшь. Однако я не имею ни¬какого права отлучать людей от вы¬бранного ими жанра только на том основании, что они кажутся мне скучными и неискренними. Такая не¬терпимость смешна и вполне в духе нашего славного аппарата... Пред¬ставляю себе картину: заседание худсовета заслуженных деятелей и ветеранов подпольной контркульту¬ры, решающих — кого мы записы¬ваем «в рок», а кого вычеркиваем... Похоже, что новое поколение вы¬бирает именно тех, кто нам не нра¬вится (начиная с «Ласкового Мая» и «Миража»). Это его право. И вовсе необязательно, кстати, что оно оста¬нется в дураках. Ведь это только се¬годня наш ширпотребный «нэп-рок» вял и неказист, но с годами, я уве¬рен, техники прибавится, музыканты заиграют веселее и наш рок, пройдя долгий извилистый путь в потемках, спустя двадцать лет вновь вернется к стандартной западной формуле — «Не бери в голову! Давай станцуем». (Take it easy. Let's dance!) Хэлло, Америка!
P. S. Наше (имею в виду предста¬вителей агонизирующего «классическо¬го» советского рока» право — выбирать. Можно принять новые правила «рыноч¬ного» рока. Можно остаться при «под¬польном» пафосе и тихо жить и рабо¬тать в этом гетто. Можно попробовать «завязать»... И так далее. Нельзя, ка¬жется, только одно: реанимировать рок-движение в его прежней форме... Вот так. Посидели, погрелись, ёлы-палы... Пора расходиться по одному.
Просмотров: 528 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Артем Троицкий
Раньше, когда к року у нас отно¬сились более опасливо, популярны были «круглые столы», посвященные одиозному феномену. Прошло время, но рок — проблема остается столь же запутанной. Этот жанр («движение»? «субкультура»?) развивается в разных странах совершенно по-разному.
Начиналось, у нас, как и везде (правда с опозданием лет на десять) с пьянящего чувства внезапно хлы¬нувшей свободы, диких танцев и упое¬ния собственной молодостью. При этом наши с чистой совестью подражали западным рокерам, которые в свою очередь подражали своим же неграм. Однако не прошло и пяти лет, как отечественный рок стал обнару¬живать явные признаки различия.
Начнем с того, что основной «по¬сыл» любого рока — раскрепощение, сбрасывание всех и всяческих пут, не дающих молодому человеку чувствовать себя хорошо. На Западе «путами» являются прежде всего организованная религия и ее прямое порождение — так называемая «бур¬жуазная мораль». Именно по ним рок-н-ролл нанес ощутимый удар еще
в пятидесятые годы, в полный рост продемонстрировав «непристойные телодвижения», «оргазмические вы¬крики» и многое другое, не вполне совместимое с воскресной проповедью. Периодически (конец 60-х. конец 70-х) сознательность рокеров возрастала, они находили других врагов (военщи¬на, нацисты, истеблишмент), но ос¬новной мишенью все равно оставались довлеющие родительские «устои». Соответственно, любимый боевой клич: «Даешь секс!» — и в самой ши¬рокой амплитуде, от садо-мазохизма до самой одухотворенной романтики. Конфликт «Религия — секс» — мо¬тор всего западного рока, попробуйте «отключить» его, и погаснут почти все ярчайшие звезды от Элвиса Пресли и Мика Джеггера до Майкла Джексона и Принца. Даже от интел¬лектуалов Леннона и Дилана останут¬ся лишь бледные тени...
У нас «освободительный» призыв рока прозвучал совсем по-иному. Пресловутая «сексуальная неудовлетворенность» в списке молодежных про¬блем оказалась далеко не главной. Цой сформулировал (от обратного, правда) наше видение рока в одной из самых первых своих песен:
Я не умею петь о любви,
Я не умею петь о цветах.
Но если я пою — значит, я вру.
Я не верю сам, что всё это так...
Тотальная несвобода и тотальная неправда — вот что мы чувствовали в годы зарождения, и бурного подъема советского рока. И именно об этом в советском роке шла речь.
2.
Речь. Это еще одно принципиальное отличие. Эстетический стержень и главный инструмент западного рока — ритм, аналогичную роль в советском роке играет слово. На моих глазах в начале семидесятых происходи¬ла отмежевание нашего тогдашнего рок-авангарда от «моторной», ритмичной западной доктрины и постепенное повсеместное растворение его в стихии невеселой молодежной реф¬лексии. Рокеры от Риги до Чукотки забыли некогда священный английский и на своих родных языках запели о наболевшем. (А наболевшим было все.) Бесспорно, что заводилами этого «текстового» движения были Андрей Макаревич и «Машина времени». Честь им и хвала. С их же легкой руки невольно возобладала, и другая, не столь прогрессивная тенденция — пустить «побоку» музыку и качество игры. Могу засвидетельствовать, что пятна¬дцать лет назад из всех известных московских рок-групп «Машина» была самой слабой в исполнительском отношении и самой «не-заводной».
Однако лучшие музыканты тех лет кто эмигрировал, кто спился, кто осел в ресторанах, а «корявый» Макаревич стал национальным культурным институтом. Так советская реаль¬ность расставила по местам приоритеты нашего рока. Главное — обме¬няться «свободным словом». Строго говоря, рок был единственным в стране массовым жанром, существо¬вавшим почти целиком вне официоза и располагавшим к тому же колос¬сальной инфраструктурой «подполь¬ной» звукозаписи, по сравнению с ко¬торой литературный самиздат выглядел кустарной лавочкой.
В 80-е годы, после разгрома боль¬шинства диссидентских кружков, смер¬ти Галича и Высоцкого, роль нашего «подпольного» рока как оппозицион¬ного социокультурного движения ста¬ла поистине монументальной. Пожа¬луй, на Западе рок никогда, даже в 1967 — 1969 гг., не был так важен как гражданский фактор. Ведь у нас он стал не только символом независимости молодого поколения и проводником неких новых ценностей, но и вообще единственным доступным «не-кухонным» способом сказать и услышать правду. Не удивительно, что за рок серьезно взялись — с целью скорейшего его искоренения —все заинтересованные госорганизации. С одной стороны, активно пропаганди¬ровались суррогаты рока («Земляне», «Группа Стаса Намина» и т. п.), с дру¬гой — был пущен в ход отлаженный репрессивный аппарат, от дежурных минкультовских клерков и возмущен¬ных, «советских композиторов» до их коллег из КГБ и МВД. Рок-община от¬вечала еще большим отчуждением и изощренной конспирацией: концерты и целые рок-фестивали проходили на частных квартирах и дачах, условия звукозаписи приближались к тем, в которых работали разведчики-радисты во время войны.
Совершенно естественно, что в боевой обстановке тех лет наш рок становился все более декларативным и социально ангажированным, а художественный ас¬пект отодвигался далеко на задний план. Вслед за «Машиной времени» духовным лидером движения стал «Аквариум» — четверо замечательных питерских пар¬тизан-лунатиков, органически не спо¬собных держать ритм и попадать в то¬нальность. Правда, в некоем параллель¬ном мире существовала узкая прослой¬ка профессионального филармоническо¬го рока («Автограф», «Динамик», «Кру¬из» и пр.), но их техническая компе¬тентность мало кого интересовала, по¬скольку худсоветы подрезали.эти группам язык до самого основания. Короче говоря, пафос советского рока легко укладывался в простую формулу: «Ни¬какой по форме, «крутой» по содер¬жанию».
Эта тенденция нашла свое предель¬ное выражение — абсурдное, но абсо¬лютно логичное — в творчестве груп¬пы «Средне-Русская возвышенность». В этот «гиперреалистический», по за¬мыслу создателей, советский рок-ансамбль вошли полдюжины москов¬ских художников-авангардистов, вооб¬ще не умевших играть, во главе с автором-солистом Свеном Гундлахом,. у которого нет слуха. Музыка — размашистый хард-рок, перемешанный с задушевными русско-еврейско-цыганскими мелодиями самого «бытового» пошиба. (Таким образом, был цели¬ком предвосхищен популярный сейчас стиль «ДДТ».) При том, что «СРВ» была «концептуальным эксперимен¬том» — то есть., грубо говоря, шут¬кой, на долю группы выпал серьез¬ный успех (включая панегирики «левых» критиков и искусствоведов). По¬нятно злорадство Гундлаха; «Я не любил советский рок и всегда подозре¬вал, что это фактически никакая не музыка, а просто скандирование под все равно какой аккомпанемент не¬коего текста, «залезающего» в определенные зоны — прежде всего социально-политическую и эрогенную… Наш эксперимент это доказал! Достаточно произнести в микрофон не сколько ключевых слов с нужной интонацией — и все будут, счастливы» Будучи остроумнее и начитаннее большинства наших рок-авторов, Свен без труда находил эти ключевые сло¬ва, позволившие «невероятной, чу¬довищной халтуре» (определение Гундлаха). «Средне-Русской возвы¬шенности» стать гвоздем «подполь¬ного» сезона... «Сталинские дома сво¬дят меня с ума». «Герои космоса жи¬вут лучше всех», «Бей жлобов — спа¬сай Россию!..» И главный хит:
Раньше мы жили на дне,
А теперь живем во сне —
В четвертом сне Веры Павловны...
Что делать и кто виноват?
Рок, кок, чок, чок!
О-о, рок, кок, чок, чок!
Рок, кок, чок, чок —
Ау — а-а!
(Жанна АГУЗАРОВА. «Желтые ботинки»)
3.
Вопрос «Кто виноват?» никогда не стоял перед нашей рок-общиной:, от¬вет на него был ясен с самого начала. Виноват «совок» (советский конфор¬мист. — Прим. ред.) во главе с пар¬тией и правительством. Сейчас можно сказать вслух суровую правду (хотя все и так ее знают, причем чиновники в первую очередь): весь мало-мальски искренний советский рок был, созна¬тельно или стихийно, сугубо антиго¬сударственным явлением. Фактически у него были две отправные точки: с одной стороны, уже упомянутый вольнолюбивый и радостный западный рок-н-ролл (для моего поколения олицетворенный в музыке «Битлз»), с другой — пороки нашей родной си¬стема (интервенция в Чехословакии убедила нас в них окончательно). Эти два полюса и создавали энергетику со¬ветского рока, причем с годами люб¬ви становилось все меньше, а нена¬висти — больше. Противостояние официозу на всех уровнях и во всех его проявлениях, от школы до «мен¬товки», от Брежнева до «Песни-82», было главнейшим стимулом жизни и творчества. Причем чем жестче ста¬новился конфликт, тем уютнее мы себя чувствовали. Не удивительно, скажем, что 1984 год, год максималь¬ных антироковых репрессий, облав, «черных списков» и т. д., стал одновременно и едва ли не самым твор¬чески плодотворным...
И вот, гонимый, ощетинившийся, при всем арсенале «холодной войны», наш рок мягко въехал в новую об¬щественно-политическую ситуацию. Сначала по инерции с ним еще велась какая-то борьба (письмо трех писате¬лей в «Правду», отмена нескольких фестивалей...). Но теперь... Цензура практически отсутствует, концертов — сколько угодно и где угодно (был бы спрос), средства массовой информации стелятся перед «патлатыми» так же, как в свое время перед членами Союза композиторов... Нетрудно догадаться, что эта внезапная перемена климата оказала на значительную (и лучшую) часть пашей рок-тусовки абсолютно деморализующее воздействие. Получив все, она лиши¬лась главного — того самого нерва, смысла существования, врага, в боях с которым она крепчала.
Встает вопрос: «Что делать?». От¬вет наших рок-радикалов принципиа¬лен и туп: «Искать новых врагов». Недавно я побывал на концерте ом¬ского панк-ансамбля «Гражданская оборона» — новых фаворитов полу¬интеллектуальных любителей советского рок-эпатажа. Скучно это было и неубедительно. Не более «художе¬ственно», чем «Средне-Русская воз¬вышенность», но значительно менее изобретательно, а главное — стопро¬центно, судорожно серьезно. Гнев из¬ливался на люберов, фарцовщиков, общество «Память». Подходящие ми¬шени, конечно, но мелковатые. Что это — власть предержащие?.. Они пытались заклеймить — и это звучало как детский лепет; они пытались бро¬сить вызов — и максимум, что уда¬лось (к великой радости и гордости!), —это спровоцировать стычку пары пьяных фанов с дружинниками... Увы, недалеки они от народа, и очень убог их «низовой» протест!
Еще недавно рок был всамделиш¬ным бунтом, разновидностью духов¬ного диссидентства — сегодня его «революционный» потенциал котиру¬ется где-то на уровне мелкого хули¬ганства. Раньше рок был счастливой отдушиной для радикальных молодых умов — сейчас это пафос глухой «се¬рединки». Поэтому меня нисколько не удивляет, что две самые умные и острые наши группы — «Антис» и «Телевизор» — в последнее, время практически отошли от политической проблематики. Ленинградец Миша Борзыкин, лидер «Телевизора»: «На политической теме сейчас спекулиру¬ют все, кому не лень, а уж от нашей группы и подавно ждут чего-то эда¬кого... Быть рабами собственной репу¬тации и подделываться под ожидания толпы — это конформизм, это не наш путь. К тому же я понял, что чинов¬ники уже совершенно не боятся того, что поют рокеры». Альгис Каушпедас из «Антиса» тоже остро почувствовал недостаточность, «игрушечность» пе¬сенного вмешательства в политику и, единственный из наших рок-артистов, сделал шаг в политику всамделишную, став членом совета сейма «Саюдиса». «Практика рок-лидера, умение обращаться с массами людей — это очень помогло. Я провел более 150 манифестаций в республике — и вполне удачно... Это было красиво, но все же не для меня. Я точно по¬нял, что нельзя путать сцену с поли¬тической трибуной. Я в первую оче¬редь художник, а большой политикой должны заниматься профессионалы». Поэтому он решил не выдвигать свою кандидатуру в Верховный Совет... Все прочие наши социально озабоченные рокеры еще более пассивны, когда до¬ходит до настоящего дела, — и я не могу укорять их за это. Наверное, ни в одном другом поколении жизнь не воспитала такого фундаментального недоверия к организованной политике. Это почти физическое неприятие сродни аллергии… Просвета не было.! Двадцать лет «бровады» (от, слова «брови») аккурат покрывали первые двадцать лет советского рока (можно считать, они ровесники с октябрьским Пленумом 1964-го) — и это, конечно, не шуточки.
4
«Что делать?», часть II: к чертям угрюмое наследие застойного прошло¬го, поиски врагов и политику, да здравствует рок как Искусство! Попу¬лярный тезис, однако воплощение его в жизнь осложняется рядом обстоя¬тельств. Самое банальное из них: нехватка (практически отсутствие) у наших музыкантов электронных ин¬струментов, средств звуко и видео¬записи. Второе: «художественный» рок у нас приходится начинать поч¬ти с нуля. Как я уже сказал, тра¬диции советского авторского рока таковы, что он всегда был значитель¬но ближе к хорошей публицистике, чем к хорошей музыке (и вообще ис¬кусству). Наконец третий, и важней¬ший, «знак вопроса»: а пойдет ли на «художественный рок» публика? Если нет, то как же эти группы выживут.
В прежние времена вопрос о выжи¬вании стоял одинаково остро перед всеми рокерами — будь то «хэви ме¬тал», бардовский рок или авангард. Все были нелегалами, все жили небо¬гато, и на концерты ко всем ломилась изголодавшаяся публика. Сейчас все
по-другому. Поразительный, парадок¬сальный факт: гласность и хозрасчет, две замечательные, спасительные для страны вещи оказались молотом и наковальней для красивого мифа со¬ветского рока. Свобода слова лишила его главного морального и творческо¬го стимула, коммерциализация физи¬чески, раздробила движение. (Подор¬вав, помимо прочего, доверие рок-на¬рода к его разбогатевшим лидерам.)
Понятие свободы в нашей и запад¬ной культуре всегда трактовалось не¬много по-разному. Для западного му¬зыканта «свобода творчества» — это прежде всего независимость от де¬нег, от всевозможных инвеститоров (фирмы грамзаписи, концертные агентства, издательства), которые прекрасно умеют мягкими «экономиче¬скими» мерами подталкивать артистов к компромиссу, придавать им более «товарный» вид. У нас же, естествен¬но, это независимость от государства, воплощенного в идеологических бон¬зах, худсоветах, цензорах, редакто¬рах, коллегиях, кои в меру своей тру¬сости или ограниченности (об идейной убежденности, думаю, речи нет) ука¬зывают и «улучшают». Сегодня же ситуация оказалась «почти запад¬ной»: с одной стороны, растерянные «инстанции», с другой — ублюдоч¬ное «совковое» подобие шоу-бизнеса, ставшее уже, на мой взгляд, боль¬шим из двух зол, обладающее боль¬шим разрушительным эффектом. Если западная система при всей ее мер¬кантильности разумна и способна ре¬гулировать музыкально-коммерческий процесс с учётом перспективы, то наши хозрасчетные «менеджеры» тво¬рят свой бизнес по принципу: сегодня урвать максимум, а завтра хоть тра¬ва не расти. Пещерная жадность по¬зволила им совершить невероятное: за год так перекормить публику роком, что она практически перестала посещать концерты. (Нередки случаи, когда в многотысячные дворцы спор¬та, приходят 200—300 человек!) Став¬ка делается на полтора десятка «хитовых» исполнителей, все остальные пускаются побоку с напутствием типа: «Мы благотворительностью не занимаемся».
Строго говоря, по пальцам можно пересчитать достойные рок-группы, выигравшие от новой концертной эко¬номики: «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Кино»... Может быть, еще две-три. Приплюсуем ансамбли, обес¬печивающие себя за счет заграничных гастролей, — «АВИА», «Аукцион», «Ва-Банк», «Джунгли», «Звуки My», «Телевизор». Что до всех прочих, то они маются в бедности и безвест¬ности, будто и не выходили из «под¬полья». Группа «Коллежский Асес¬сор» (одна из самых интересных в стране с музыкальной точки зрения) не в состоянии купить четыре билета на поезд от Киева до Москвы. Heкоторый шанс отверженным, как это ни странно дает «презренное государст¬во» (тоже, кстати, западный синдром): скажем, почти все московские панки, пост-панки, трэш-металлиеты и дру¬гие экстремисты рока нашли приют в рок-лаборатории при Управлении культуры. Это далеко не Вхутемас, но куда податься?
5.
Картина становится угрюмее с каждым месяцем. Ушел из жизни Са¬ша Башлачев — крупнейший, по-ви¬димому, рок-поэт нашего поколения. Ушли из рока талантливейшие и наиболее неожиданные художники — Антон Адасинский (ныне театр «Де¬рево»), Сергей Курехнн (киномузы¬ка, эпизодические хеппенинги), Петр Мамонов (кино, среди последних предложений — роль педагога Мака¬ренко...). В полном смятении вчераш¬ние кумиры Бутусов и Гребенщиков. Кажется, относительно неплохо идут дела у Кинчева, Цоя и Шевчука, если не считать того, что песни их с каждым годом все больше становят¬ся похожими на самопародию (увы, то самое, о чем говорил Борзыкии), и на концерты их ходят уже не моло¬дые умники и богемианцы, а метал¬листы младшего школьного возраста и те самые люберы, которых наши рок-лидеры так не любят. Что, кста¬ти, свидетельствует о том, что пере¬рождается не только творческая ин¬фраструктура рока, но и его социальная база...
Выиграли в новой ситуации лишь те, для кого рок никогда не был духов¬ным промыслом, выражением жизнен¬ной позиции, но был товаром и объектом неких профессиональных манипу¬ляций. Лучшие по профессии Стас Намин, Владимир Киселев («Земляне»). Их час настал — обладая навыками и хваткой, можно поставлять поп-музыку на внутренний рынок и на экспорт, смело отшвырнув в сторону орды вче¬рашних нахлебников из Минкульта, Госконцерта, Межкниги... Что радует. Не радует другое: если в Центре Намина несколько интересных групп имеет¬ся (хотя ход был дан в первую очередь убогому «Парку Горького»), то конку¬рирующие организации (а конкуренция, поверьте мне, нешуточная — вплоть до рэкета и похищений) кичтоже сумнящеся штампуют инкубаторские рок-коллективы, которые своей марионеточ¬ной безликостью сродни ночным кош¬марам.
«Это не рок!» У защитников чисто¬ты жанра уже готов ответ: «Это эстрада, ВИА, халтура, халява, про¬фанация, торгашество». Все так, но почему это не может быть и роком одновременно? Никто, скажем, не сомневается в том, что американцы «Бон Джови» — это рок. А чем они отличаются от того же «Парка Горько¬го»? Разве что помоложе и посексу¬альнее. В остальном точно такой же ширпотреб и профанация великих Хендрикса, Клэптона и «Лед Зеппелин»... Я недостаточно мазохист, чтобы смотреть «Утреннюю почту» или «50x50», однако программу «Взгляд» стараюсь не пропускать, и она дает мне достаточное представ¬ление о новой формаций «совкового» рока. Все необходимые атрибуты, на¬лицо: не только черная кожа, «джин¬са» и локоны ниже плеч, но и «со¬держание» — как нас всю жизнь об¬манывали, какой тиран был Сталин, во что сволочи страну превратили и как они же теперь тормозят пере¬стройку. Я гляжу в пустые глаза му¬зыкантов и на их заученные позы, слушаю натужно-смелые тексты и чувствую во всем этом стопроцент¬ную фальшь. Однако я не имею ни¬какого права отлучать людей от вы¬бранного ими жанра только на том основании, что они кажутся мне скучными и неискренними. Такая не¬терпимость смешна и вполне в духе нашего славного аппарата... Пред¬ставляю себе картину: заседание худсовета заслуженных деятелей и ветеранов подпольной контркульту¬ры, решающих — кого мы записы¬ваем «в рок», а кого вычеркиваем... Похоже, что новое поколение вы¬бирает именно тех, кто нам не нра¬вится (начиная с «Ласкового Мая» и «Миража»). Это его право. И вовсе необязательно, кстати, что оно оста¬нется в дураках. Ведь это только се¬годня наш ширпотребный «нэп-рок» вял и неказист, но с годами, я уве¬рен, техники прибавится, музыканты заиграют веселее и наш рок, пройдя долгий извилистый путь в потемках, спустя двадцать лет вновь вернется к стандартной западной формуле — «Не бери в голову! Давай станцуем». (Take it easy. Let's dance!) Хэлло, Америка!
P. S. Наше (имею в виду предста¬вителей агонизирующего «классическо¬го» советского рока» право — выбирать. Можно принять новые правила «рыноч¬ного» рока. Можно остаться при «под¬польном» пафосе и тихо жить и рабо¬тать в этом гетто. Можно попробовать «завязать»... И так далее. Нельзя, ка¬жется, только одно: реанимировать рок-движение в его прежней форме... Вот так. Посидели, погрелись, ёлы-палы... Пора расходиться по одному.
На смерть Жукова
Вижу колонны замерших звуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.
Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
Просмотров: 528 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Вижу колонны замерших звуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.
Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
Скульптуры, которых мы не видим
О судьбе работ Вадима Сидура
В последние полтора года мы уз¬нали (в частности, из статей, опуб¬ликованных в «ЛГ») немало вопию¬щих фактов, касающихся пренебрежитель¬ного отношения к памятникам старины, расхищения коллекций, безобразного содержания культурных ценностей. Глас¬ность и создание Советского фонда культуры приведут, будем надеяться, к резко¬му улучшению ситуации.
Посетители крупнейшего в мире уско¬рителя частиц, находящегося в Батавии, близ Чикаго, могут увидеть большой брон¬зовый скульптурный портрет Альберта Эйзенштейна. Фотографии этой скульптуры не раз появлялись в печати. Копия ее — тоже в бронзе — установлена в Физиче¬ском институте имени Макса Планка в Мюнхене. Думаю, это этот портрет Эйн¬штейна уже вошел в золотой фонд ми¬ровой скульптуры. Его автор — скончав¬шийся в 1986 году советский скульптор Вадим Сидур.
Монументальные скульптуры В. Сидура установлены в Западном Берлине — «Треб-линка» (1979 г.) и в ФРГ — «Памятник погибшим от насилия» (Кассель, 1974 г.), «Памятник современному состоянию» (Констанц, 1981 г.), «Памятник погибшим от любви» (Оффенбург, 1984 г.), «Взы¬вающий» (Дюссельдорф, 1985 г.) и неко¬торые другие. Эти скульптуры — памятни¬ки нашей многострадальной эпохе с ее войнами и лагерями смерти. Вместе с тем эти памятники столько претерпевшему от ран, болезней и пренебрежения, но обладавшему несгибаемым духом и любовью к искусству Вадиму Сидуру.
А как же обстоит дело с работами Си¬дура у нас? Если не считать двух декора¬тивных скульптур, в СССР можно увидеть лишь его памятники, в первую очередь на¬ходящиеся на Новодевичьем кладбище в Москве, — памятники академикам Е. С. Варге, И. Е. Тамму и А. Н. Фрумкину.
Вкусы в области живописи и скульпту¬ры не являются чем-то неизменным. Пред¬ставители моего поколения, да и более молодью, помнят, как фактически под запретом находились у нас картины импрес¬сионистов, Пикассо, Шагала, Кандинского и многих других. Что же говорить о скромном Сидуре, тогда еще живом и даже на Западе малоизвестном! Не могу без возмущения и отвращения вспоминать заседание какого-то «художественного со¬вета», на котором — кажется, в 1972 го¬ду — мне пришлось присутствовать (к счастью, единственный раз в жизни) с целью добиться лишь разрешения (!) установить надгробье работы В. Сидура на могиле И. Е. Тамма.
Надеюсь, что все подобное в значитель¬ной мере уже позади и понято наконец, что эстетические и художественные вкусы вовсе не должны обязательно отвечать ука¬заниям и нормам Союза художников, Академии художеств и Министерства куль¬туры СССР. В равной мере нужно осо¬знать, что объяснить внимание, проявляе¬мое на Западе к произведениям советских художников и скульпторов, только полити¬ческими мотивами совершенно неверно. Ярким примером здесь являются как раз скульптуры Вадима Сидура. Кстати ска¬зать, он не только никогда не был за гра¬ницей, но никогда и не собирался туда уезжать.
Установка скульптур Сидура на Западе объясняется только одним — их художест¬венной ценностью, по крайней мере в гла¬зах тех, кто тратил большие усилия и деньги, на создание этих скульптур. Как же они вообще оказались на Западе? Аме¬риканские физики, посещавшие СССР, увидели керамическую модель скульптуры Эйнштейна в мастерской Сидура. Узнав, что у нас никто ее устанавливать не соби¬рается, они предложили купить эту скульптуру. Были присланы официальные письма, заплатить хотели, кажется, много тысяч долларов. Началось хождение по мукам. Результат был таков: пришел кто-то из Министерства культуры в мастерскую Сидура и, видимо, дал отрицатель¬ное заключекие о его творчестве. Потом, в разговоре со мной по телефону, один из заместителей министра сообщил, что он «картин и репродукций работ Сидура у себя дома не повесил бы». Я ответил, что придерживаюсь противоположных взгля¬дов. На этом фактически дело и кончи¬лось — продать скульптуру не удалось. Нужно ли объяснять, что для подлинного художника увидеть воплощение его пла¬нов — дороже денег? Поэтому нашелся та¬кой выход (так и хочется мне поставить слово «выход» в кавычки): отнюдь не бо¬гатый. Вадим Сидур подарил гипсовую ко¬пию портрета Эйнштейна Академии наук СССР, а она в свою очередь в 1975 году подарила ее дирекции ускорителя в Бата¬вии. Там на основе присланной гипсовой копии отлили и установили скульптуру из бронзы (как я слышал, это трудное и доро¬гое дело). Как были установлены монументальные скульптуры в Западном Берпине и ФРГ? Миниатюрные прообразы этих скульптур видели посещавшие мастерскую Сидура люди, среди которых были Генрих, Ренато Гуттузо и Джакимо Манцу и многие другие. Нашлись люди (я их лично никого не знаю и подробностей сообщить не могу), на которых даже проекты скульптур Сидура произвели сильное, впечатление. Сам я испытываю такие же чувства. Не говоря даже о большом та¬ланте, силз, с которой Вадим Сидур смог воплотить в скульптуре человеческое стра¬дание и вообще человеческие чувства, да¬леко не случайна. Сидур родился в 1924 году, но успел побывать на фронте, был тяжело ранен, увидел бездну страданий. Замечательный, скульптор и художник, чистая душа, Вадим Сидур сумел в лучших своих работах выразить нечто, что не опишешь словами. Это нужно видеть, нужно чувствовать. Я .не искусство¬вед, но- искусство создается ведь в пер¬вую очередь как раз для неискушенных людей, а не только для знатоков и про¬фессионалов. Поэтому я вовсе не стесня¬юсь своего мнения: для меня Вадим Си¬дур — великий скульптор. Вполне воз¬можно, и даже вероятно, что не многие с этим согласятся. Это их дело. Я ведь, ес¬ли бы даже мог, никому не стал бы навя¬зывать свое мнение и вкусы, а отстаиваю лишь право иметь таковые. Здесь более важно другое: ряд произведений Сидура и у нас высоко оценивают многие. Этого, к сожалению, было недостаточно для того, чтобы Сидуру разрешили организовать персональную выставку и т. д. Но уже этого вполне достаточно, чтобы проявлять к нему, к его памяти и, главное, к его ра¬ботам элементарное уважение,
Выше я хотел лишь объяснить, почему нашлись в Западном Берлине и в ФРГ лю¬ди (и, думаю, не случайно именно там, где у многих имеется комплекс вины), которые затратили массу сил и средств, чтобы ус¬тановить на городских площадях и в парках скульптуры Вадима Сидура. Замечу, что ни за одну из перечисленных скульптур, установленных на Западе, В. Сидур гоно¬рара не получал.
Думаю, что выставка работ Сидура и особенно издание посвященного ему аль¬бома более чем уместны.
Главное, однако, другое. Именно это «главное» и заставило написать настоя¬щую статью. Вадим Сидур 30 лет работал в «мастерской», представляющей собой подвал жилого дома. Подвал время от времени заливает водой. Но другой ма¬стерской у Сидура не было, он лучшего не просил, на лучшее не рассчитывал. Сейчас в этом подвале находится более 500 скульптур Вадима Сидура.
И вот, оказывается, этот подвал нужно освободить. Дело в том, что МОСХ (Мос¬ковское отделение Союза художников) от¬казывает семье Сидура в продлении арен¬ды на мастерскую (кстати сказать, цен¬ность этого помещения ясна уже из того, что В. Сидур за его аренду платил 9 руб¬лей в месяц, правда, со скидкой, полагаю¬щейся инвалиду Великой Отечественной войны). Куда же деть скульптуры Вадима Сидурз? Да выбросить, очевидно! Не в свою же квартиру заберет их вдова скульп¬тора. Такого нельзя допустить, и поэтому группа из шестнадцати писателей, ком¬позиторов и физиков сочла нужным об¬ратиться к председателю МОСХа О. М. Савостюку с письмом от 22 сентября 1986 года. В нем просили только об од¬ном — сохранить мастерскую Вадима Си¬дура за его семьей. Не сомневаюсь, что под этим письмом были бы рады подпи¬саться и многие другие, знакомые с рабо¬тами В. Сидура. Подписавшие упомяну¬тое письмо ответа не получили. Семье же Сидура сообщили, что мастерскую можно оставить, если будет предостав¬лено взамен другое помещение. По сути дела, это отказ — где же вдо¬ва и сын Сидура достанут «другое помещение»? Предоставление скромного по¬мещения, организация выставки и изда¬ние альбома в нормальных условиях не должны составлять проблемы. Но нужно быть реалистами — возможности и сред¬ства у Советского фонда культуры и у Министерства культуры ограниченны, а же¬лающих что-либо получить очень много. Поэтому некоторые возникающие затруд¬нения по крайней мере можно понять. Но когда речь идет только о том, чтобы хотя бы не разрушать уже имеющееся, не ло¬мать, не выбрасывать, то здесь у Совет¬ского фонда культуры должны быть ши¬рокие полномочия — иначе его миссия обречена на провал.
Настоящую статью прошу считать от¬крытым письмом в Советский фонд куль¬туры и в Министерство культуры СССР — не позвольте уничтожить мастерскую Ва¬дима Сидура, что было бы подлинным ак¬том вандализма.
В. ГИНЗБУРГ, академик
Литературная газета, №18 1987 г.
Памятник погибшим от бомб

Просмотров: 1020 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
О судьбе работ Вадима Сидура
В последние полтора года мы уз¬нали (в частности, из статей, опуб¬ликованных в «ЛГ») немало вопию¬щих фактов, касающихся пренебрежитель¬ного отношения к памятникам старины, расхищения коллекций, безобразного содержания культурных ценностей. Глас¬ность и создание Советского фонда культуры приведут, будем надеяться, к резко¬му улучшению ситуации.
Посетители крупнейшего в мире уско¬рителя частиц, находящегося в Батавии, близ Чикаго, могут увидеть большой брон¬зовый скульптурный портрет Альберта Эйзенштейна. Фотографии этой скульптуры не раз появлялись в печати. Копия ее — тоже в бронзе — установлена в Физиче¬ском институте имени Макса Планка в Мюнхене. Думаю, это этот портрет Эйн¬штейна уже вошел в золотой фонд ми¬ровой скульптуры. Его автор — скончав¬шийся в 1986 году советский скульптор Вадим Сидур.
Монументальные скульптуры В. Сидура установлены в Западном Берлине — «Треб-линка» (1979 г.) и в ФРГ — «Памятник погибшим от насилия» (Кассель, 1974 г.), «Памятник современному состоянию» (Констанц, 1981 г.), «Памятник погибшим от любви» (Оффенбург, 1984 г.), «Взы¬вающий» (Дюссельдорф, 1985 г.) и неко¬торые другие. Эти скульптуры — памятни¬ки нашей многострадальной эпохе с ее войнами и лагерями смерти. Вместе с тем эти памятники столько претерпевшему от ран, болезней и пренебрежения, но обладавшему несгибаемым духом и любовью к искусству Вадиму Сидуру.
А как же обстоит дело с работами Си¬дура у нас? Если не считать двух декора¬тивных скульптур, в СССР можно увидеть лишь его памятники, в первую очередь на¬ходящиеся на Новодевичьем кладбище в Москве, — памятники академикам Е. С. Варге, И. Е. Тамму и А. Н. Фрумкину.
Вкусы в области живописи и скульпту¬ры не являются чем-то неизменным. Пред¬ставители моего поколения, да и более молодью, помнят, как фактически под запретом находились у нас картины импрес¬сионистов, Пикассо, Шагала, Кандинского и многих других. Что же говорить о скромном Сидуре, тогда еще живом и даже на Западе малоизвестном! Не могу без возмущения и отвращения вспоминать заседание какого-то «художественного со¬вета», на котором — кажется, в 1972 го¬ду — мне пришлось присутствовать (к счастью, единственный раз в жизни) с целью добиться лишь разрешения (!) установить надгробье работы В. Сидура на могиле И. Е. Тамма.
Надеюсь, что все подобное в значитель¬ной мере уже позади и понято наконец, что эстетические и художественные вкусы вовсе не должны обязательно отвечать ука¬заниям и нормам Союза художников, Академии художеств и Министерства куль¬туры СССР. В равной мере нужно осо¬знать, что объяснить внимание, проявляе¬мое на Западе к произведениям советских художников и скульпторов, только полити¬ческими мотивами совершенно неверно. Ярким примером здесь являются как раз скульптуры Вадима Сидура. Кстати ска¬зать, он не только никогда не был за гра¬ницей, но никогда и не собирался туда уезжать.
Установка скульптур Сидура на Западе объясняется только одним — их художест¬венной ценностью, по крайней мере в гла¬зах тех, кто тратил большие усилия и деньги, на создание этих скульптур. Как же они вообще оказались на Западе? Аме¬риканские физики, посещавшие СССР, увидели керамическую модель скульптуры Эйнштейна в мастерской Сидура. Узнав, что у нас никто ее устанавливать не соби¬рается, они предложили купить эту скульптуру. Были присланы официальные письма, заплатить хотели, кажется, много тысяч долларов. Началось хождение по мукам. Результат был таков: пришел кто-то из Министерства культуры в мастерскую Сидура и, видимо, дал отрицатель¬ное заключекие о его творчестве. Потом, в разговоре со мной по телефону, один из заместителей министра сообщил, что он «картин и репродукций работ Сидура у себя дома не повесил бы». Я ответил, что придерживаюсь противоположных взгля¬дов. На этом фактически дело и кончи¬лось — продать скульптуру не удалось. Нужно ли объяснять, что для подлинного художника увидеть воплощение его пла¬нов — дороже денег? Поэтому нашелся та¬кой выход (так и хочется мне поставить слово «выход» в кавычки): отнюдь не бо¬гатый. Вадим Сидур подарил гипсовую ко¬пию портрета Эйнштейна Академии наук СССР, а она в свою очередь в 1975 году подарила ее дирекции ускорителя в Бата¬вии. Там на основе присланной гипсовой копии отлили и установили скульптуру из бронзы (как я слышал, это трудное и доро¬гое дело). Как были установлены монументальные скульптуры в Западном Берпине и ФРГ? Миниатюрные прообразы этих скульптур видели посещавшие мастерскую Сидура люди, среди которых были Генрих, Ренато Гуттузо и Джакимо Манцу и многие другие. Нашлись люди (я их лично никого не знаю и подробностей сообщить не могу), на которых даже проекты скульптур Сидура произвели сильное, впечатление. Сам я испытываю такие же чувства. Не говоря даже о большом та¬ланте, силз, с которой Вадим Сидур смог воплотить в скульптуре человеческое стра¬дание и вообще человеческие чувства, да¬леко не случайна. Сидур родился в 1924 году, но успел побывать на фронте, был тяжело ранен, увидел бездну страданий. Замечательный, скульптор и художник, чистая душа, Вадим Сидур сумел в лучших своих работах выразить нечто, что не опишешь словами. Это нужно видеть, нужно чувствовать. Я .не искусство¬вед, но- искусство создается ведь в пер¬вую очередь как раз для неискушенных людей, а не только для знатоков и про¬фессионалов. Поэтому я вовсе не стесня¬юсь своего мнения: для меня Вадим Си¬дур — великий скульптор. Вполне воз¬можно, и даже вероятно, что не многие с этим согласятся. Это их дело. Я ведь, ес¬ли бы даже мог, никому не стал бы навя¬зывать свое мнение и вкусы, а отстаиваю лишь право иметь таковые. Здесь более важно другое: ряд произведений Сидура и у нас высоко оценивают многие. Этого, к сожалению, было недостаточно для того, чтобы Сидуру разрешили организовать персональную выставку и т. д. Но уже этого вполне достаточно, чтобы проявлять к нему, к его памяти и, главное, к его ра¬ботам элементарное уважение,
Выше я хотел лишь объяснить, почему нашлись в Западном Берлине и в ФРГ лю¬ди (и, думаю, не случайно именно там, где у многих имеется комплекс вины), которые затратили массу сил и средств, чтобы ус¬тановить на городских площадях и в парках скульптуры Вадима Сидура. Замечу, что ни за одну из перечисленных скульптур, установленных на Западе, В. Сидур гоно¬рара не получал.
Думаю, что выставка работ Сидура и особенно издание посвященного ему аль¬бома более чем уместны.
Главное, однако, другое. Именно это «главное» и заставило написать настоя¬щую статью. Вадим Сидур 30 лет работал в «мастерской», представляющей собой подвал жилого дома. Подвал время от времени заливает водой. Но другой ма¬стерской у Сидура не было, он лучшего не просил, на лучшее не рассчитывал. Сейчас в этом подвале находится более 500 скульптур Вадима Сидура.
И вот, оказывается, этот подвал нужно освободить. Дело в том, что МОСХ (Мос¬ковское отделение Союза художников) от¬казывает семье Сидура в продлении арен¬ды на мастерскую (кстати сказать, цен¬ность этого помещения ясна уже из того, что В. Сидур за его аренду платил 9 руб¬лей в месяц, правда, со скидкой, полагаю¬щейся инвалиду Великой Отечественной войны). Куда же деть скульптуры Вадима Сидурз? Да выбросить, очевидно! Не в свою же квартиру заберет их вдова скульп¬тора. Такого нельзя допустить, и поэтому группа из шестнадцати писателей, ком¬позиторов и физиков сочла нужным об¬ратиться к председателю МОСХа О. М. Савостюку с письмом от 22 сентября 1986 года. В нем просили только об од¬ном — сохранить мастерскую Вадима Си¬дура за его семьей. Не сомневаюсь, что под этим письмом были бы рады подпи¬саться и многие другие, знакомые с рабо¬тами В. Сидура. Подписавшие упомяну¬тое письмо ответа не получили. Семье же Сидура сообщили, что мастерскую можно оставить, если будет предостав¬лено взамен другое помещение. По сути дела, это отказ — где же вдо¬ва и сын Сидура достанут «другое помещение»? Предоставление скромного по¬мещения, организация выставки и изда¬ние альбома в нормальных условиях не должны составлять проблемы. Но нужно быть реалистами — возможности и сред¬ства у Советского фонда культуры и у Министерства культуры ограниченны, а же¬лающих что-либо получить очень много. Поэтому некоторые возникающие затруд¬нения по крайней мере можно понять. Но когда речь идет только о том, чтобы хотя бы не разрушать уже имеющееся, не ло¬мать, не выбрасывать, то здесь у Совет¬ского фонда культуры должны быть ши¬рокие полномочия — иначе его миссия обречена на провал.
Настоящую статью прошу считать от¬крытым письмом в Советский фонд куль¬туры и в Министерство культуры СССР — не позвольте уничтожить мастерскую Ва¬дима Сидура, что было бы подлинным ак¬том вандализма.
В. ГИНЗБУРГ, академик
Литературная газета, №18 1987 г.
Памятник погибшим от бомб

Цирк
Цирк — магическое слово, тысячелетняя игра, танец со слеза¬ми и смехом, игра рук и. ног, превращенная в высокое искусство.
Что получают большинство людей цирка? Кусок хлеба. Ночь приносит им одиночество, тоску. До следующего дня, пока ве¬чер, залитый электрическим светом, не объявит им о новом празднике старухи жизни.
Цирк — представление, которое мне кажется наиболее трагичным.
Во все времена это пронзительный крик человека, ищущего беспечность и радость. Часто цирк становится высокой поэзией. Мне кажется, он похож на Дон Кихот. Дон Кихота, ищущего свой идеал, словно гениальный клоун, который выплакался и гре¬зит о человеческой любви.
Где-то во мне или вне меня кружат странные мысли при ви¬де огромной клетки со львами и тиграми. Она передо мной как Ноэв ковчег. За решеткой сидят те, кого Ной выбрал, чтобы спа¬сти от потопа. Вместо Ноя — молодой укротитель с хлыстом в руке. Он распоряжается. Я не вижу здесь белой птицы, которая могла бы взлететь, чтобы возвестить людям о мире на земле.
Играют чью-то музыку. Я сижу, словно голый, и жду, когда эти звери бросятся на нас и начнут мстить за себя, за то, что они не родились людьми. Может быть, поэтому они ревут и ска¬лятся, взбешенные.и раздраженные людьми, их миром?
Я слышу, как из их широко открытых глоток доносится иная правда, звериная, нам неизвестная. Они рычат, презирая нас и свою тюрьму, их рев полон загадок, для нас недоступных. Сей¬час они готовы съесть нас всех заживо.
Где найти клоуна, у которого был бы столь выразительный рот и который мог бы показать белые зубы в красном, острые, как молниям
Я однажды нарисовал этих львов: на троне царя Соломона, в ногах у царя Давида, на арке в храме. Я видел их изображение на одеждах верховных жрецов, на коврах во дворцах.
Музыка смолкает. Цирковые звери покидают нас. Укротитель открывает дверцу, звери, прошедшие через унижение, заходят в свои пропахшие клетки, а мы расходимся по своим спальням, к своим обыкновенным снам.
Всю свою жизнь я рисовал лошадей, которые скорее походи¬ли на ослов или коров. Я видел их в Лиозно, у своего деда, ко¬торого часто упрашивал взять меня с собой в близлежащие де¬ревни, куда он ездил закупать скот для своей мясной лавки. Он убивал его под навесом во дворе.
Так как все лошади, которых я видел, находились в востор¬женном состоянии, я подумал: быть может, они счастливее нас? Можно совершенно спокойно встать на колени перед лошадью и читать молитву. Из-за величайшей скромности эти животные все время опускают глаза. Я чувствую, как у меня внутри резо¬нирует лошадиный топот. Я мог бы, вскочив на лошадь, ринуть¬ся, закрыв глаза, на сверкающую арену жизни. Я хотел бы прев¬зойти свою природу и более не чувствовать себя чужим среди этих молчаливых существ, мысли которых одному богу известны.
В зверях, лошадях, коровах, пастухах, среди деревьев и хол¬мов — во всем тишина. Мы же болтаем, поем, пишем поэмы, де¬лаем рисунки, которых они не читают, не видят и не слышат.
Я хотел бы, улыбаясь, подойти к той наезднице, о которой только что говорил, с букетом цветов. Я окружил бы ее своими цветущими и отцветшими годами. Я рассказывал бы ей, стоя на коленях, о сновидениях и мечтах, совершенно неземных.
Я бежал бы за ее лошадью, чтобы спросить, как жить, как убежать от самого себя, от мира, к кому бежать, куда идти.
Так в меня вошел иной мир. В нем нет ничего общего с чело¬веческой комедией. У него иные горизонты...

Просмотров: 630 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Цирк — магическое слово, тысячелетняя игра, танец со слеза¬ми и смехом, игра рук и. ног, превращенная в высокое искусство.
Что получают большинство людей цирка? Кусок хлеба. Ночь приносит им одиночество, тоску. До следующего дня, пока ве¬чер, залитый электрическим светом, не объявит им о новом празднике старухи жизни.
Цирк — представление, которое мне кажется наиболее трагичным.
Во все времена это пронзительный крик человека, ищущего беспечность и радость. Часто цирк становится высокой поэзией. Мне кажется, он похож на Дон Кихот. Дон Кихота, ищущего свой идеал, словно гениальный клоун, который выплакался и гре¬зит о человеческой любви.
Где-то во мне или вне меня кружат странные мысли при ви¬де огромной клетки со львами и тиграми. Она передо мной как Ноэв ковчег. За решеткой сидят те, кого Ной выбрал, чтобы спа¬сти от потопа. Вместо Ноя — молодой укротитель с хлыстом в руке. Он распоряжается. Я не вижу здесь белой птицы, которая могла бы взлететь, чтобы возвестить людям о мире на земле.
Играют чью-то музыку. Я сижу, словно голый, и жду, когда эти звери бросятся на нас и начнут мстить за себя, за то, что они не родились людьми. Может быть, поэтому они ревут и ска¬лятся, взбешенные.и раздраженные людьми, их миром?
Я слышу, как из их широко открытых глоток доносится иная правда, звериная, нам неизвестная. Они рычат, презирая нас и свою тюрьму, их рев полон загадок, для нас недоступных. Сей¬час они готовы съесть нас всех заживо.
Где найти клоуна, у которого был бы столь выразительный рот и который мог бы показать белые зубы в красном, острые, как молниям
Я однажды нарисовал этих львов: на троне царя Соломона, в ногах у царя Давида, на арке в храме. Я видел их изображение на одеждах верховных жрецов, на коврах во дворцах.
Музыка смолкает. Цирковые звери покидают нас. Укротитель открывает дверцу, звери, прошедшие через унижение, заходят в свои пропахшие клетки, а мы расходимся по своим спальням, к своим обыкновенным снам.
Всю свою жизнь я рисовал лошадей, которые скорее походи¬ли на ослов или коров. Я видел их в Лиозно, у своего деда, ко¬торого часто упрашивал взять меня с собой в близлежащие де¬ревни, куда он ездил закупать скот для своей мясной лавки. Он убивал его под навесом во дворе.
Так как все лошади, которых я видел, находились в востор¬женном состоянии, я подумал: быть может, они счастливее нас? Можно совершенно спокойно встать на колени перед лошадью и читать молитву. Из-за величайшей скромности эти животные все время опускают глаза. Я чувствую, как у меня внутри резо¬нирует лошадиный топот. Я мог бы, вскочив на лошадь, ринуть¬ся, закрыв глаза, на сверкающую арену жизни. Я хотел бы прев¬зойти свою природу и более не чувствовать себя чужим среди этих молчаливых существ, мысли которых одному богу известны.
В зверях, лошадях, коровах, пастухах, среди деревьев и хол¬мов — во всем тишина. Мы же болтаем, поем, пишем поэмы, де¬лаем рисунки, которых они не читают, не видят и не слышат.
Я хотел бы, улыбаясь, подойти к той наезднице, о которой только что говорил, с букетом цветов. Я окружил бы ее своими цветущими и отцветшими годами. Я рассказывал бы ей, стоя на коленях, о сновидениях и мечтах, совершенно неземных.
Я бежал бы за ее лошадью, чтобы спросить, как жить, как убежать от самого себя, от мира, к кому бежать, куда идти.
Так в меня вошел иной мир. В нем нет ничего общего с чело¬веческой комедией. У него иные горизонты...

Сегодня мы знакомим читате¬лей с небольшой частью литера¬турного наследия Марка Шагала. Это отрывок из интервью, взя¬того у художника Жаком Шанселем для радио и опубликованно¬го в 1971 году в «Сборнике радио¬передач», а также два фрагмен¬та из статей, собранных в 1979 го¬ду издательством «Дрегер» в кни¬ге «М. Шагал. Художник и писа¬тель».
Неустанно работать
— Мало людей, к которым можно обратиться со словом «мэтр» без малейшего желания польстить, из уважения. Шагал, вы — один из таких людей. Ваше, имя покрыто славой.
— Зачем говорить о славе в связи со мной? Да, правитель¬ство Франции осыпало меня почестями, власти очень лю¬безны со мной. Однако я сам живу в постоянном сомнении, оно съедает меня. Если обо мне хорошо отзываются, я быстро забываю об этом, если хорошо пишут, я, к несчастью, не очень верю. Но если кто-то бранит меня, я принимаю его слова всерьез...
— Вы один из самых старых художников в мире...
— Не будем говорить о возрасте. Я знаю, что стар. Очень стар. Я помню об этом.
— Однако вы выглядите человеком, находящимся в полном здравии.
— Я не пью, не объедаюсь. Не ложусь слишком поздно спать. Раньше любил работать по вечерам, но это было давно, очень давно. Сейчас я стараюсь не возвращаться из мастерской позд¬но, моя жена рада, когда я прихожу пораньше.
— Вы часто волнуетесь?
— Все время. Мать рассказала мне, что когда я появился на свет, город охватил огромный пожар и чтобы нас с матерью спасти, кровать, в которой мы оба лежали, переносили с места на место. Может быть, поэтому я постоянно взволнован.
Но в общем я человек веселый и часто улыбаюсь. Я люблю людей и стараюсь не жаловаться. Конечно, мне становится неве¬село, когда я, читая газеты, узнано, что сегодня творится в мире. Но молодежь мне нравится.
— Какая она, по-вашему, сегодня?
— Я ей завидую. Правда, сегодня, все молодые люди спорщики, они готовы пререкаться по любому поводу. Но я тоже когда-то был спорщиком. Еще до войны 1914 года. Как и мои, друзья Сандрар и Делонэ. Мы даже носки носили разных цве¬тов, один у меня был красным, другой, кажется, синим. Я наде¬вал зеленую куртку и начинал спорить.
Молодым людям я готов простить все, даже то, что мне ка¬жется странным: они теряют время. В самом деле, молодость всегда вызывает симпатию.
— Вам ближе люди, которые постоянно работают?
— Да. Нужно работать, неустанно работать. Нельзя достиг¬нуть идеала без работы. Для того чтобы создать произведение искусства, необходимо отдавать себя работе на все 400 процен¬тов, даже больше. Если вы выкладываетесь на 90 процентов, значит, вы неталантливы. В любой профессии работать нужно на пределе, отдаваясь ей целиком. Не ради денег — ради качества. Качество придает смысл жизни.
Насколько молодые люди были бы счастливее, если бы умели работать, работать по-настоящему. Думаю, что сегодня им не хватает именно этого.
— Что вы думаете о современной эпохе? Вы с ней в согласии?
— Я не люблю подобных вопросов. Мне нравится делать взбалмошные вещи, требующие фантазии, — писать картины, книги, поэмы. Сегодня же взбалмошность и фантазия выливаются в то, что один обливает другого грязью. Я не вижу в этом ничего интересного.
Из книг, газет, по радио — отовсюду узнаешь, что убивают, убивают и снова убивают. Крайне редко по радио можно услы¬шать, что кто-то написал гениальную поэму...
Снова и снова войны. Почему бы людям не читать Шекспира, не смотреть Рембрандта. Почему бы им не ходить в музеи, не уви¬деть своими глазами, что и как было сделано.
На концертах слушают Моцарта, затем выходят из зала и ока¬зываются на войне. Бесконечная глупость, одно и то же...
— Вы только что вспоминали о своей молодости. Наверное, это было прекрасное время?
— Конечно. Когда мне было двадцать, я тоже выкидывал но¬мера. Я был крайне влюбчив и терял массу времени. Я влюблял¬ся и забрасывал свои картины. Вероятно, не стоит об этом говорить.
Я был не просто романтиком, я был романтиком с головы до пят, правда у себя в мастерской я работал...
По тем временам я был очень богат — в моем распоряжении было 125 франков в месяц. Помню, как однажды я пришел за ними, в банк и меня спросили, в каком виде я хочу их получить, в золоте или в бумагах? Я попросил дать мне их в бумагах, по¬тому что иначе я их потеряю. В золоте это было пять малень¬ких монет величиной с мой коготок. Я боялся их посеять.
Тогда в квартале Рюш жили Модильяни, Сутин и многие другие. Так как среди нас всех я был самым богатым, часто ко мне стучали в дверь и говорили: «Шагал, дай мне на маленький биф¬штекс». Затем шли и покупали телячью печень. Единственная вещь, которую я умел хорошо готовить, была телячья печень. Часто приходил Сандрар. Я предлагал ему завтрак. За один франк в те времена можно было позавтракать.
Ночь напролет я работал, днем вышагивал по улицам, ходил на выставки, в музеи и возвращался, чтобы ночь поработать.
— Вы очень рано увлеклись живописью?
— В школе я неплохо учился, но заикался. Когда-то меня уку¬сила собака. Я заикался и не знал, как мне быть. Однажды один из учеников показал мне черно-белый рисунок. Я спросил его: «Что это такое?» Он ответил: «Ты можешь пойти в библиотеку, взять картинку и перерисовать ее». Тогда я понял, что тоже мо¬гу худо-бедно рисовать и это мне подходит.
— Вы довольны сегодня собой?
— Если моя жена счастлива, я тоже счастлив, я улыбаюсь.
— Вы говорили: «Мои дни проходили на площади Согласия и в Люксембургском саду, я видел Дантона и Ватто. Париж, ты мой второй Витебск».
— Так что же вы все-таки хотите узнать от меня? Я пишу кар¬тины, и на моих картинах, если вы чувствуете их, есть все. Мне нечего добавить. Нужно только продолжать работать
Если в произведении искусства нет чего-то ирреального, оно нереально. Я сказал это мальчишкой, в 20 лет, когда меня спро¬сили: «Но как это понять? Почему мертвые у вас лежат на ули¬це, а на крыше у вас музыкант?» Что я должен объяснить? Я так чувствовал. Чувствовал, что мир стоит вверх дном.
Ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожа¬щая сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.
Как в жизни, так и в искусстве нам нужны взбалмошные и фантастические вещи. Только не надо им специально выучи¬ваться, не надо их насаждать.
Я не заканчивал никаких специальных курсов. Знания входят в нас с рождением, вместе с кровью. Для того, чтобы научить¬ся чему-либо, необязательно ходить в университет. Учатся преж¬де всего у своих родителей. Отец и мать были моей школой. Я учился, когда смотрел на своего отца и видел, как тяжело он ра¬ботает, как пьет чай, курит, как он устает. Учился, когда видел свою мать, стряпавшую на кухне для восьмерых детей. Затем я вырос и увидел небо, его ночь, увидел молоденьких девушек, настолько прелестных, что я ни за что не решился бы до них до¬тронуться. Все это — моя школа. И все это есть на моих карти¬нах.
— Вы, должно быть, умеете необыкновенно видеть?
— Нет, я не Эйнштейн. Недавно по телевизору показывали Эйнштейна. Он действительно необыкновенный человек! Я же просто человек. Я не умею ни воровать, ни убивать. Я люблю людей, работаю почти бесплатно, ничего не требую.
— Однажды вы сказали: «Я приехал в Париж за синим цве¬том». Есть цвета, которые принадлежат определенным странам?
— Да, конечно. Определенным странам и определенным лю¬дям. Не знаю почему, синий — мой цвет. Быть может, человеку с рождения соответствует какой-то цвет.
— Вы сказали, что ничего не кончали. Все, что вы умеете, вы узнали на улице, глядя на людей?
— Да. Сначала — дома, у родителей, затем — во Франции. Примерно в 1910—1911 годах я увидел художников, работающих на рынке. Мне очень нравится их метод.
Достаточно взглянуть на картины Шардена, Пуссена или Моне. В этом — Франция!
— Вам приходилось завидовать?
— Я завистлив. Это так. Я. завидую Моцарту, Рембрандту, Гойе — из-за некоторых его картин. Я завидую Тициану в ста¬рости. Я завидую вам, вашей молодости…
Литературная газета. 1986 г.
Продолжение в следующих блогах.

Просмотров: 1130 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Неустанно работать
— Мало людей, к которым можно обратиться со словом «мэтр» без малейшего желания польстить, из уважения. Шагал, вы — один из таких людей. Ваше, имя покрыто славой.
— Зачем говорить о славе в связи со мной? Да, правитель¬ство Франции осыпало меня почестями, власти очень лю¬безны со мной. Однако я сам живу в постоянном сомнении, оно съедает меня. Если обо мне хорошо отзываются, я быстро забываю об этом, если хорошо пишут, я, к несчастью, не очень верю. Но если кто-то бранит меня, я принимаю его слова всерьез...
— Вы один из самых старых художников в мире...
— Не будем говорить о возрасте. Я знаю, что стар. Очень стар. Я помню об этом.
— Однако вы выглядите человеком, находящимся в полном здравии.
— Я не пью, не объедаюсь. Не ложусь слишком поздно спать. Раньше любил работать по вечерам, но это было давно, очень давно. Сейчас я стараюсь не возвращаться из мастерской позд¬но, моя жена рада, когда я прихожу пораньше.
— Вы часто волнуетесь?
— Все время. Мать рассказала мне, что когда я появился на свет, город охватил огромный пожар и чтобы нас с матерью спасти, кровать, в которой мы оба лежали, переносили с места на место. Может быть, поэтому я постоянно взволнован.
Но в общем я человек веселый и часто улыбаюсь. Я люблю людей и стараюсь не жаловаться. Конечно, мне становится неве¬село, когда я, читая газеты, узнано, что сегодня творится в мире. Но молодежь мне нравится.
— Какая она, по-вашему, сегодня?
— Я ей завидую. Правда, сегодня, все молодые люди спорщики, они готовы пререкаться по любому поводу. Но я тоже когда-то был спорщиком. Еще до войны 1914 года. Как и мои, друзья Сандрар и Делонэ. Мы даже носки носили разных цве¬тов, один у меня был красным, другой, кажется, синим. Я наде¬вал зеленую куртку и начинал спорить.
Молодым людям я готов простить все, даже то, что мне ка¬жется странным: они теряют время. В самом деле, молодость всегда вызывает симпатию.
— Вам ближе люди, которые постоянно работают?
— Да. Нужно работать, неустанно работать. Нельзя достиг¬нуть идеала без работы. Для того чтобы создать произведение искусства, необходимо отдавать себя работе на все 400 процен¬тов, даже больше. Если вы выкладываетесь на 90 процентов, значит, вы неталантливы. В любой профессии работать нужно на пределе, отдаваясь ей целиком. Не ради денег — ради качества. Качество придает смысл жизни.
Насколько молодые люди были бы счастливее, если бы умели работать, работать по-настоящему. Думаю, что сегодня им не хватает именно этого.
— Что вы думаете о современной эпохе? Вы с ней в согласии?
— Я не люблю подобных вопросов. Мне нравится делать взбалмошные вещи, требующие фантазии, — писать картины, книги, поэмы. Сегодня же взбалмошность и фантазия выливаются в то, что один обливает другого грязью. Я не вижу в этом ничего интересного.
Из книг, газет, по радио — отовсюду узнаешь, что убивают, убивают и снова убивают. Крайне редко по радио можно услы¬шать, что кто-то написал гениальную поэму...
Снова и снова войны. Почему бы людям не читать Шекспира, не смотреть Рембрандта. Почему бы им не ходить в музеи, не уви¬деть своими глазами, что и как было сделано.
На концертах слушают Моцарта, затем выходят из зала и ока¬зываются на войне. Бесконечная глупость, одно и то же...
— Вы только что вспоминали о своей молодости. Наверное, это было прекрасное время?
— Конечно. Когда мне было двадцать, я тоже выкидывал но¬мера. Я был крайне влюбчив и терял массу времени. Я влюблял¬ся и забрасывал свои картины. Вероятно, не стоит об этом говорить.
Я был не просто романтиком, я был романтиком с головы до пят, правда у себя в мастерской я работал...
По тем временам я был очень богат — в моем распоряжении было 125 франков в месяц. Помню, как однажды я пришел за ними, в банк и меня спросили, в каком виде я хочу их получить, в золоте или в бумагах? Я попросил дать мне их в бумагах, по¬тому что иначе я их потеряю. В золоте это было пять малень¬ких монет величиной с мой коготок. Я боялся их посеять.
Тогда в квартале Рюш жили Модильяни, Сутин и многие другие. Так как среди нас всех я был самым богатым, часто ко мне стучали в дверь и говорили: «Шагал, дай мне на маленький биф¬штекс». Затем шли и покупали телячью печень. Единственная вещь, которую я умел хорошо готовить, была телячья печень. Часто приходил Сандрар. Я предлагал ему завтрак. За один франк в те времена можно было позавтракать.
Ночь напролет я работал, днем вышагивал по улицам, ходил на выставки, в музеи и возвращался, чтобы ночь поработать.
— Вы очень рано увлеклись живописью?
— В школе я неплохо учился, но заикался. Когда-то меня уку¬сила собака. Я заикался и не знал, как мне быть. Однажды один из учеников показал мне черно-белый рисунок. Я спросил его: «Что это такое?» Он ответил: «Ты можешь пойти в библиотеку, взять картинку и перерисовать ее». Тогда я понял, что тоже мо¬гу худо-бедно рисовать и это мне подходит.
— Вы довольны сегодня собой?
— Если моя жена счастлива, я тоже счастлив, я улыбаюсь.
— Вы говорили: «Мои дни проходили на площади Согласия и в Люксембургском саду, я видел Дантона и Ватто. Париж, ты мой второй Витебск».
— Так что же вы все-таки хотите узнать от меня? Я пишу кар¬тины, и на моих картинах, если вы чувствуете их, есть все. Мне нечего добавить. Нужно только продолжать работать
Если в произведении искусства нет чего-то ирреального, оно нереально. Я сказал это мальчишкой, в 20 лет, когда меня спро¬сили: «Но как это понять? Почему мертвые у вас лежат на ули¬це, а на крыше у вас музыкант?» Что я должен объяснить? Я так чувствовал. Чувствовал, что мир стоит вверх дном.
Ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожа¬щая сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.
Как в жизни, так и в искусстве нам нужны взбалмошные и фантастические вещи. Только не надо им специально выучи¬ваться, не надо их насаждать.
Я не заканчивал никаких специальных курсов. Знания входят в нас с рождением, вместе с кровью. Для того, чтобы научить¬ся чему-либо, необязательно ходить в университет. Учатся преж¬де всего у своих родителей. Отец и мать были моей школой. Я учился, когда смотрел на своего отца и видел, как тяжело он ра¬ботает, как пьет чай, курит, как он устает. Учился, когда видел свою мать, стряпавшую на кухне для восьмерых детей. Затем я вырос и увидел небо, его ночь, увидел молоденьких девушек, настолько прелестных, что я ни за что не решился бы до них до¬тронуться. Все это — моя школа. И все это есть на моих карти¬нах.
— Вы, должно быть, умеете необыкновенно видеть?
— Нет, я не Эйнштейн. Недавно по телевизору показывали Эйнштейна. Он действительно необыкновенный человек! Я же просто человек. Я не умею ни воровать, ни убивать. Я люблю людей, работаю почти бесплатно, ничего не требую.
— Однажды вы сказали: «Я приехал в Париж за синим цве¬том». Есть цвета, которые принадлежат определенным странам?
— Да, конечно. Определенным странам и определенным лю¬дям. Не знаю почему, синий — мой цвет. Быть может, человеку с рождения соответствует какой-то цвет.
— Вы сказали, что ничего не кончали. Все, что вы умеете, вы узнали на улице, глядя на людей?
— Да. Сначала — дома, у родителей, затем — во Франции. Примерно в 1910—1911 годах я увидел художников, работающих на рынке. Мне очень нравится их метод.
Достаточно взглянуть на картины Шардена, Пуссена или Моне. В этом — Франция!
— Вам приходилось завидовать?
— Я завистлив. Это так. Я. завидую Моцарту, Рембрандту, Гойе — из-за некоторых его картин. Я завидую Тициану в ста¬рости. Я завидую вам, вашей молодости…
Литературная газета. 1986 г.
Продолжение в следующих блогах.

Пабло Пикассо из Нью-Йорка и Парижа
В Музее изобразительных искусств на Волхонке не первая встреча с Пабло Пикассо. Первая была в 1956 году, и открыл ее Илья Эренбург. Многие помнят, какую панику и в официальной критике, и среди зрителей вызвали работы художника, но именно тогда в горячей полемике прозвучало запальчивое: «Вы еще увидите, что XX век назовут веком Пикассо». Столетие подходит к концу, и. казалось бы, недавний, 1956 год отделен от нас временной пропастью. Москвичи с обновленным сознанием придут на эту новую встречу с художником, ибо иной стала художественная жизнь столицы, изменились наши представления о языке современного изобразительного искусства.
— Выставка приурочена к «Декабрьским вечерам». На ней представлены пятнадцать кар¬тин из коллекций нью-йоркского Музея современного искусства и Центра Помпиду в Париже, а также эстампы из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Самая ранняя из экспонируемых картин — «Два акробата с собакой» написана в 1905 году, самая поздняя — «Весна» 1956 года.
Пикассо был одним из тех, кто разрушил границы классических жанров живописи — портрета, натюрморта, пейзажа, невероятно расширил возможности искусства.
Об этом человеке написано и рассказано столько, что библиография посвященных ему работ могла бы соперничать разве что с обилием жизнеописаний знаменитых полководцев или владык церкви. Одни описания его внешности и характера составили бы добрый фолиант: «каталонец с лицом монаха и глазами инквизитора...» Вот что говорит Кокто: «Если вы видели Пикассо только на фотографиях, я хотел бы вам его описать. Он очень мал ростом, у него изящные руки и ноги и страшные глаза, которые так и буравят вас и видят все внешнее и скрытое. Его остроты подобны холодному душу. Порой под ним ежишься, но он всегда идет на пользу».
Интерес к личности Пикассо, во всех смыслах действительно весьма занимательной, был спровоцирован не только собственно его искусством, а творческий «автограф» он оставлял во всех областях искусства, с которыми только соприкасался: в театре делая костюмы и декорации, в скульптуре, керамике, косвенно — в дизайне. Интерес провоцировался «образом» этого человека, лю¬бившего всяческого рода мистификации. Судьба живописца поражает насыщенностью и «терпимостью» к сочетанию самых разных явлений. Родом из провинциального местечка Малаги в Каталонии на северо-востоке Испании, он фактически всю жизнь провел во Франции и был центром того интернационального, сообщества художественной богемы, которое, составляет сейчас «книгу, культуры» XX века. Пикассо много путешествовал, в том числе был в России, несколько раз женился, покупал замки, вступил в Коммунистическую партию Франции и, любя успех, снискал к себе как небывалое, пожалуй, во всей истории искусства, количество упреков, так и «эпидемический», лихорадочный интерес.
Личность Пикассо трагически беспокойна. И даже на призере пятнадцати картин можно убедиться в том, что эволюция его творчества основывается на бесконечном стремлении к самообновлению и внутреннему изживанию тех «рамок», которые мастер ставит для себя в качестве очередной художественной задачи.
Зрителям предстоит общение с поразительной фантазией Пикассо-художника, для которого мир представлял собой сосуществование радости, страдания и всепоглощающей иронии.
Известия, 3 декабря 1990 года, №335


Просмотров: 639 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
В Музее изобразительных искусств на Волхонке не первая встреча с Пабло Пикассо. Первая была в 1956 году, и открыл ее Илья Эренбург. Многие помнят, какую панику и в официальной критике, и среди зрителей вызвали работы художника, но именно тогда в горячей полемике прозвучало запальчивое: «Вы еще увидите, что XX век назовут веком Пикассо». Столетие подходит к концу, и. казалось бы, недавний, 1956 год отделен от нас временной пропастью. Москвичи с обновленным сознанием придут на эту новую встречу с художником, ибо иной стала художественная жизнь столицы, изменились наши представления о языке современного изобразительного искусства.
— Выставка приурочена к «Декабрьским вечерам». На ней представлены пятнадцать кар¬тин из коллекций нью-йоркского Музея современного искусства и Центра Помпиду в Париже, а также эстампы из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Самая ранняя из экспонируемых картин — «Два акробата с собакой» написана в 1905 году, самая поздняя — «Весна» 1956 года.
Пикассо был одним из тех, кто разрушил границы классических жанров живописи — портрета, натюрморта, пейзажа, невероятно расширил возможности искусства.
Об этом человеке написано и рассказано столько, что библиография посвященных ему работ могла бы соперничать разве что с обилием жизнеописаний знаменитых полководцев или владык церкви. Одни описания его внешности и характера составили бы добрый фолиант: «каталонец с лицом монаха и глазами инквизитора...» Вот что говорит Кокто: «Если вы видели Пикассо только на фотографиях, я хотел бы вам его описать. Он очень мал ростом, у него изящные руки и ноги и страшные глаза, которые так и буравят вас и видят все внешнее и скрытое. Его остроты подобны холодному душу. Порой под ним ежишься, но он всегда идет на пользу».
Интерес к личности Пикассо, во всех смыслах действительно весьма занимательной, был спровоцирован не только собственно его искусством, а творческий «автограф» он оставлял во всех областях искусства, с которыми только соприкасался: в театре делая костюмы и декорации, в скульптуре, керамике, косвенно — в дизайне. Интерес провоцировался «образом» этого человека, лю¬бившего всяческого рода мистификации. Судьба живописца поражает насыщенностью и «терпимостью» к сочетанию самых разных явлений. Родом из провинциального местечка Малаги в Каталонии на северо-востоке Испании, он фактически всю жизнь провел во Франции и был центром того интернационального, сообщества художественной богемы, которое, составляет сейчас «книгу, культуры» XX века. Пикассо много путешествовал, в том числе был в России, несколько раз женился, покупал замки, вступил в Коммунистическую партию Франции и, любя успех, снискал к себе как небывалое, пожалуй, во всей истории искусства, количество упреков, так и «эпидемический», лихорадочный интерес.
Личность Пикассо трагически беспокойна. И даже на призере пятнадцати картин можно убедиться в том, что эволюция его творчества основывается на бесконечном стремлении к самообновлению и внутреннему изживанию тех «рамок», которые мастер ставит для себя в качестве очередной художественной задачи.
Зрителям предстоит общение с поразительной фантазией Пикассо-художника, для которого мир представлял собой сосуществование радости, страдания и всепоглощающей иронии.
Известия, 3 декабря 1990 года, №335


Искусство поклевки
Разговор с художником уехавшим в Нью-Йорк
Если б ты знала, какая это грязь — все, что мы делаем, и все, что нас окружает», — сказал вполне преуспевающий и, как мне ка¬залось, обласканный судьбой авангар¬дист.
Было это полгода назад в знамени¬том на всю Москву и далее доме ху¬дожников в Фурманном переулке. Хо¬зяин мастерской Саша Захаров, сидел «на чемоданах» в ожидании билетов в Америку. Надолго? На год, может, больше. Как пойдут дела... Все зависит от успеха, а успех — это деньги.
— Сколько в среднем стоят твои работы?
— Сейчас смешно говорить о стои¬мости в рублях. Рыночная цена — от трех до десяти—двенадцати тысяч долларов.
— Вероятно, из тридцатилетних ты своего рода «звезда»? Выставка в Европе, теперь — Нью-Йорк...
— Это только отсюда кажется — раз тобой интересуются иностранцы, значит, ты чего-то стоишь. И свои сразу набегают. Думать, что на Запа¬де нас знают или понимают, — аб¬сурд. В лучшем случае знают Кабако¬ва, Булатова, Брускина, тех, кого «прокатывают» художественные жур¬налы.
— Саша, как возникла нынешняя, несколько сумасшедшая мода на со¬ветское искусство?
— Это естественное следствие про¬цессов разрядки и перестройки. Мы стали заполнять пустующие дырочки, лакуны в европейском бизнесе, в том числе и художественном. Западные бизнесмены часть денег автоматиче¬ски тратят на искусство. Наугад по¬купают то, что им нравится.
Но за этими людьми идут, как пра¬вило, галерейщики — профессионалы, делающие деньги на искусстве. Галерейщик уже не меценат — он может скупить разом все твои работы и по¬том продавать, их. Кому? За сколько? Никогда не узнаёшь. Это уже вещи галереи Фишер, например. Товар.
Третья «волна» — критики, журна¬листы, эксперты. Без них галерея мо¬жет ничего и не продать — нужна связь с прессой. Критики чаще всего представляют собой интеллектуаль¬ную элиту Европы и Америки, они со¬стоятельны и независимы. Но даже из этого верхнего эшелона большая часть работает на деньги крупных бизне¬сменов, но тех, которые, быть может, сюда никогда и не ездили. Просто они посылают разведку, чтобы знать, что представляет настоящий интерес.
(Эту схему я могу дополнить массой зарисовок с натуры. Сама была свиде¬телем, как покупали работы молодых художников. Меняли на пальто с плеча. Сумма 200—300 рублей казалась огром¬ной. Да и сейчас еще порой с новичком можно «махнуться» на магнитофон... А новоявленные советские маршаны! Кон¬такты с иностранными покупателями — дорогая вещь, за нее платят комисси¬онные. На Западе художественный агент — это профессия, у нас пока — шанс для авантюристов и спекулянтов. Происходило иногда так: иностранцы стоят во дворе, маршан выносит из квартиры десяток работ. Тут же, на снегу, происходит сделка: семьдесят процентов денег приносится художни¬ку, тридцать забирает посредник.
На первых порах отношения советско¬го художника с покупателем проще все¬го решались в Битце и в Измайлове. Пришел, увидел, купил. Из рук в руки. Но Измайлово и Арбат заполонил жи¬вописный китч.
Тех, кто вынырнул из этой волны, руб¬ли интересуют мало. Теперь продажа иностранцам совершается по-другому. Официально — через выставочные са¬лоны по экспорту художественных про¬изведений, которым Министерство куль¬туры передало часть своих прежде мо¬нопольных прав. Таких мест пока еще немного, но они дают разрешение на вывоз работы из страны. Художник при этом получает 10 процентов в валюте, да и то нужно отстоять колоссальную очередь, чтобы снять со счета во Внеш¬экономбанке раз в год 420 инвалютных рублей при поездке за границу. Так по закону. Не думаю, что это справедливо. Но пока мы, советские граждане, не имеем права открыть свой счет в банках других стран, да, кстати, и валюту на ру¬ках иметь — дело уголовное. Хотя в ны¬нешней неразберихе все имеют и от¬крывают. Знакомства происходят прямо в мастерских, можно живьем получить валюту, а картину, свернув в рулон, про¬везти через таможню как подарок.
Конечно, выставка-продажа в запад¬ной галерее — лучше. Но галереи берут не меньше сорока — шестидесяти про¬центов от проданных картин. Если галерея престижная — создается имя на будущее. А если нет?
А если нет, то даже та незначительная сумма, которую художник может полу¬чить в результате выставки-продажи, для нашей страны — почти богатство. Есть шанс привезти, скажем, компью¬тер, продать здесь и устроить свой быт... Но мечта большинства — чтобы доб¬рый дядя-миллионер из Америки вывез художника «на год-другой и — пиши, жи¬ви, гуляй! Но при этом чаще всего пи¬ши то, что продается, живи, но в долг. Ты сам себе больше не принадлежишь.
Во всем — ощущение ненадежности, случайности, везения. Покупка не¬скольких картин заезжим «фирмачом» превращается в радужное видение бу¬дущего успеха. Но картины уходят, и это ничего не означает — ни настояще¬го признания, ни будущей выставки, ни подлинного интереса критиков и серьез¬ных экспертов. Просто вывоз колони¬ального товара.
Искусствоведы Запада прекрасно различают Илью Кабакова и коммерческого Михаила Шемякина. «Не советовал бы я вашим художникам связываться с нашими галереями, — сказал мне ди¬ректор Музея современного искусства во Франкфурте-на-Майне доктор Ам¬ман. — Это сломает их».
Еще как ломает! Возникает впечатле¬ние, что авангард просто-таки стремится стать коммерческим искусством. Если приятель «попал в жилу» — почему бы не попробовать писать, как он? Да и как уговорить художника ради отечества жить хуже, чем он мог бы или надеет¬ся? Бытие определяет...
Поневоле вспомнишь о тяжёлых вре¬менах подполья. Была в этом какая-то чистота эксперимента — выживания в разреженном воздухе, где дышать мож¬но было только тем, что писал.)
— Саша, ты, наверное, на собствен¬ном примере знаешь, каким драматич¬ным бывает столкновение наших худож¬ников с западным рынком...
— Начнем с того, что сейчас у нас ничего не работает для создания собственного рынка. Когда нарушена связь между оценивающим и двигательным аппаратом — либо паралич, либо идиотия. У нас в обществе, допустим, паралич, как говорят экономисты. За десятилетия мы умудрились создать какое-то промежуточное государство, без азиатских корней, без европей¬ской свободы личности. Мы все по¬рвали. А теперь еще рушится и раз¬работанная советской властью систе¬ма связей.
Художественного рынка мы се¬бе не представляем. Американ¬ские банки предлагают вкладывать деньги не только в землю, но и в кар¬тины. А нам непонятно, что картина может быть материальной ценностью. Или она бесценна, или вообще ничего не стоит! Европеец при этом умеет сопротивляться рыночному или праг¬матичному взгляду на жизнь. Из это¬го сопротивления порой и создается настоящая культура. А мы, в частно¬сти русские художники, на себе по¬чувствовали, что находимся вне ду¬ховных европейских ценностей и вне азиатских корней. Я, например, да и многие из нас стояли со штыком напе¬ревес к коллективной системе Союза художников. Мои друзья диссидент¬ского склада полемизировали как бы с плакатами. Вся наша среда выстрои¬лась против Политбюро ЦК КПСС, против неких социальных законов, как оказалось, условных. Законы рас¬пались. Выходит, мы сопротивлялись фикции, воздуху. Создали нечто фактически на обочине культуры.
Так вот, когда мы столкнулись с европейской или американской систе¬мой отношений в искусстве, перед на¬ми разверзлась черная яма. Если на¬до было заранее к чему-то готовить¬ся, так это к рынку, бизнесу, который делают на тебе.
У нас не разработана система на¬логообложения на валютные заработки. Либо продразверстка, либо ты уголовник. Любой западный галерейщик, любой посредник прекрасно зна¬ет о нашем шатком юридическом по¬ложении, знает, что мы абсолютно бесправны. Нас обманывают, а мы тратим время, силы, нервы на то, чтобы выиграть какие-то копейки. Это уже совсем далеко от искусства. Ху¬дожники, видя это, начинают звереть и маршем идут по Европе, заодно оскорбляя настоящих ценителей, которые хотят с нами работать. Начи¬нается грязь. Серьезные и мощные галереи уже говорят, что с русскими невозможно работать. Ведь связую¬щим звеном между галереей и художником чаще всего становится русский эмигрант, уехавший, лет десять назад, и ему нужны деньги. На контрактах и комиссионных нас обманывают, как хотят. А советские чиновники и орга¬низации, которые должны были за¬щищать нас, ничуть не лучше. И ты между двух огней: с одной сторо¬ны, тебя могут обмануть западные партнеры, с другой — тебе самому нужно обмануть советских чиновни¬ков, иначе голым останешься...
(Несколько в сторону.
Как в нашей стране становятся аван¬гардистами? По-разному, разумеется. Учтем и то, что эмансипированное евро¬пейское искусство справедливо числит наш авангард у себя в арьергарде. И все же случай Саши Захарова мне ка¬жется характерным.
Итак, года четыре назад Саша был неплохим пейзажистом. В сапогах и ват¬нике, с этюдником выбирался «на природу». Во время депрессии, ко¬гда Саша три недели провалялся в больнице, появилась графика того рода, как и нынешние его работы. Точнее, еще в детстве нравилось разрисовывать школьные учебники всякими уродцами. «Своего рода доморощенный сюрреа¬лизм, особенно когда это совмещалось с портретами вождей. Этакий домашний цинизм. Кто бы мог подумать, что из этого что-то получится?» А теперь внешние обстоятельства.)
— Нужны были деньги. К 25 годам у меня уже было двое детей, зато от¬сутствовала квартира. Нищета — это ломает. Я художник, член молодеж¬ного творческого объединения, имел «корочки», а работал дворником, сто¬рожем, работал в кинотеатрах, столо¬вой. И вот однажды около салона на Октябрьской увидел я старого знако¬мого — он продавал крошечные картиночки, в ладошку, из-под полы. Постояв с ним, я убедился, что он за час зарабатывает столько, сколько я за месяц да еще унижаясь...
И я решил, что вот он, единствен¬ный способ поправить финансовое положение. Играючи, я очень скоро за¬работал достаточно, чтобы плюнуть на Союз художников со всей его офи¬циальной командой, тем более что уже надоело. Тогда я почувство¬вал впервые законы рынка... Нужда отступила, и появилась возможность заниматься чем-нибудь «кайфовым». А что «кайфово»? Я же «говорящий» художник — я стал заниматься болтологией тусовками по райкомам — для себя, для команды. Появилась куча знакомых — в министерствах культуры, в партийных верхах. Выс¬тавки, группы... Формы легализации андерграунда.
(В предисловии к финскому каталогу критик Киммо Сарье весьма серьезно анализирует нынешнее творчество Саши Заxapoвa. Со ссылками на Михаила Бахтина — смеховая культура, примерами Франческо Клемента и Жана Мишеля Баскиата — деструктурная позиция! — и даже эпиграфом из речей М. С. Горбачева. Мне же по поводу Сашиных картин пришлось признаться, что... как бы мягче выразиться… в общем, с моим пиететом к классическому русскому авангарду, уважением к нонконформи¬стам-шестидесятникам... я не уверена, что это серьезное искусство, уф!)
— Да я и сам то, что делаю, искусством не считаю.
Я — паяц. Наношу на пейзаж лу¬бочные картинки, потом тексты — из частушек, из надписей в туалетах. Это фольклор. Я абсолютно неудобо¬варимый. Я сознательно выстраиваю антитезу европейской эстетике, по¬стоянно ёрничаю.
Мои картины — иллюстрация моих реакций на определенные штампы жизни. В качестве «интерьерной» живописи они не годятся. Скорее, вы¬зывают любопытство... Как этнография.
— Ты всерьез считаешь интерес к вам этнографическим?
— Более того, мне кажется, что наша «экзотика» по большей части ангажирована нами. Мы же стараемся свои идеи переложить на их язык, с их акцентом...
— Ты считаешь, что соцарт — не только искусство, сколько советология, выраженная живописью? Игра с мифами?
— Конечно. Европеец воспринимает это извне. Для того чтобы он понял то, что нам абсолютно ясно, (о нас самих), Булатов встает на сторону европейца, берет плакат и расска¬
зывает ему, рисуя, что такое «совет¬ский дух». Как бы делается сноска. Существует ангажемент, и он выполнен. Соцарт ведь тоже заверчен в коммерческий барабан, хотя главные его представители — люди пожилые. Но в чистом своем виде в нем хотя бы не было желания приспособиться к рынку. Зато есть вторая, третья волна соцарта с просто различной
формой: от абстракции и до «новых диких» нашего розлива. Их покупают в дорогие интерьеры, в гостиные...
Вне зависимости от стиля то, что сейчас уходит на Запад, — все это этнография. Пусть ею забавляются американские или европейские сред¬ние слои, пусть на этом утверждают¬ся и заглушают свои страхи. Никакой «азиатской заразы» нет. Потому что они все-таки нас боятся. Как только начинаешь им демонстрировать «звериное мурло», они вспомина¬ют о тоталитарно-военизированной энергетике, которая в нас заложена. Мы сейчас создаем им момент раз¬рядки. Демонстрируем имитацию, раз¬личные формы приспособления.
— Саша, скоро ли кончится мода на советский авангард? Каковы твои прогнозы?
— Уже кончается. Что от нас нуж¬но? Купить наши идеологемы, купить дешево и заполнить бреши в европейском интересе к тому, что делается в «малых народах». Пропадает экзотичность, русским искусством заполнилась вся Европа. Сейчас начала заполняться Америка. В прошлом году у нас была поклевка с Австралией. Мы уже вели переговоры с эмигран¬тами второго поколения — бизнесменами. Они предлагают выставки на курортах, побережье...
В конце концов через пару лет все утрясется и каждый займет свое ис¬тинное место. Большинство, я думаю, эмигрируют и утонут там. Кто-то смо¬жет удержаться на низком или сред¬нем коммерческом уровне, обеспечи¬вая эмиграцию.
— Много беспокойства слышится по поводу «утечки» современного искусства из страны. Мы и так уже по¬теряли шедевры русского авангарда 20-х годов...
— Русский авангард 20-х годов принадлежит мировой культуре, так же, как и Россия в начале века принадлежала мировой культуре и экономике. Сейчас все, что делается нами,
не авангард, во-первых, и не нацио¬нальное достояние, во-вторых. Я считаю — пусть вывозят все, что хотят. Надо будет, мы вернем все обратно. Как только в России нача¬лась концентрация капитала, началось и меценирование культуры и вывоз из Европы всего, что нам интересно. Прошлым летом я был на советско-американской конференции в качестве приглашенного. Три дня унижений! На слайдах показывали деятелей культуры типа Хаммера и перечисля¬ли — кто чего и на сколько мил¬лионов долларов вывез из России. «До 17 года вы были крупнейшими покупателями, а теперь вы крупней¬шие продавцы. Мы у вас покупали, покупаем и будем покупать. И выво¬зить будем...»
— Тебе не жалко?
— Нет. Все вернется, но только в том случае, если будет образована но¬вая экономическая система, которая позволит стране выживать на между¬народном рынке. Тогда будет и внут¬ренний рынок, да и искусство будет другое. И сопротивление коммерции появится. И культурная среда, выра¬батывающая свои оценки. Если на мою выставку приходит десяток дис¬сидентов с женами и десяток сума¬сшедших мужиков — это не среда. Если на выставку Шилова стоит ог¬ромная очередь, как за мебелью, — это тоже не среда. Для того чтобы образовалась взаимосвязь художника с культурной средой, нужно, чтобы Репин написал Третьякову: Павел Михайлович, недавно видел у Крам¬ского одну вещь. Я считаю, что она должна быть в вашей галерее, люди должны ее видеть. Так вот, необходи¬мы деятели, ответственные за культу¬ру (не по должности), обладающие ин¬теллектуальной базой для того, чтобы оценивать, и способные субсидировать искусство. Короче, нужны те, без ко¬го не состоялся бы серебряный век русской культуры — не собственно художники, а деловые люди типа и масштаба Дягилева. Но где они?
Наталья Троепольская, Литературная газета, 11 апреля 1990 г., № 15 (5289)
Просмотров: 867 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Разговор с художником уехавшим в Нью-Йорк
Если б ты знала, какая это грязь — все, что мы делаем, и все, что нас окружает», — сказал вполне преуспевающий и, как мне ка¬залось, обласканный судьбой авангар¬дист.
Было это полгода назад в знамени¬том на всю Москву и далее доме ху¬дожников в Фурманном переулке. Хо¬зяин мастерской Саша Захаров, сидел «на чемоданах» в ожидании билетов в Америку. Надолго? На год, может, больше. Как пойдут дела... Все зависит от успеха, а успех — это деньги.
— Сколько в среднем стоят твои работы?
— Сейчас смешно говорить о стои¬мости в рублях. Рыночная цена — от трех до десяти—двенадцати тысяч долларов.
— Вероятно, из тридцатилетних ты своего рода «звезда»? Выставка в Европе, теперь — Нью-Йорк...
— Это только отсюда кажется — раз тобой интересуются иностранцы, значит, ты чего-то стоишь. И свои сразу набегают. Думать, что на Запа¬де нас знают или понимают, — аб¬сурд. В лучшем случае знают Кабако¬ва, Булатова, Брускина, тех, кого «прокатывают» художественные жур¬налы.
— Саша, как возникла нынешняя, несколько сумасшедшая мода на со¬ветское искусство?
— Это естественное следствие про¬цессов разрядки и перестройки. Мы стали заполнять пустующие дырочки, лакуны в европейском бизнесе, в том числе и художественном. Западные бизнесмены часть денег автоматиче¬ски тратят на искусство. Наугад по¬купают то, что им нравится.
Но за этими людьми идут, как пра¬вило, галерейщики — профессионалы, делающие деньги на искусстве. Галерейщик уже не меценат — он может скупить разом все твои работы и по¬том продавать, их. Кому? За сколько? Никогда не узнаёшь. Это уже вещи галереи Фишер, например. Товар.
Третья «волна» — критики, журна¬листы, эксперты. Без них галерея мо¬жет ничего и не продать — нужна связь с прессой. Критики чаще всего представляют собой интеллектуаль¬ную элиту Европы и Америки, они со¬стоятельны и независимы. Но даже из этого верхнего эшелона большая часть работает на деньги крупных бизне¬сменов, но тех, которые, быть может, сюда никогда и не ездили. Просто они посылают разведку, чтобы знать, что представляет настоящий интерес.
(Эту схему я могу дополнить массой зарисовок с натуры. Сама была свиде¬телем, как покупали работы молодых художников. Меняли на пальто с плеча. Сумма 200—300 рублей казалась огром¬ной. Да и сейчас еще порой с новичком можно «махнуться» на магнитофон... А новоявленные советские маршаны! Кон¬такты с иностранными покупателями — дорогая вещь, за нее платят комисси¬онные. На Западе художественный агент — это профессия, у нас пока — шанс для авантюристов и спекулянтов. Происходило иногда так: иностранцы стоят во дворе, маршан выносит из квартиры десяток работ. Тут же, на снегу, происходит сделка: семьдесят процентов денег приносится художни¬ку, тридцать забирает посредник.
На первых порах отношения советско¬го художника с покупателем проще все¬го решались в Битце и в Измайлове. Пришел, увидел, купил. Из рук в руки. Но Измайлово и Арбат заполонил жи¬вописный китч.
Тех, кто вынырнул из этой волны, руб¬ли интересуют мало. Теперь продажа иностранцам совершается по-другому. Официально — через выставочные са¬лоны по экспорту художественных про¬изведений, которым Министерство куль¬туры передало часть своих прежде мо¬нопольных прав. Таких мест пока еще немного, но они дают разрешение на вывоз работы из страны. Художник при этом получает 10 процентов в валюте, да и то нужно отстоять колоссальную очередь, чтобы снять со счета во Внеш¬экономбанке раз в год 420 инвалютных рублей при поездке за границу. Так по закону. Не думаю, что это справедливо. Но пока мы, советские граждане, не имеем права открыть свой счет в банках других стран, да, кстати, и валюту на ру¬ках иметь — дело уголовное. Хотя в ны¬нешней неразберихе все имеют и от¬крывают. Знакомства происходят прямо в мастерских, можно живьем получить валюту, а картину, свернув в рулон, про¬везти через таможню как подарок.
Конечно, выставка-продажа в запад¬ной галерее — лучше. Но галереи берут не меньше сорока — шестидесяти про¬центов от проданных картин. Если галерея престижная — создается имя на будущее. А если нет?
А если нет, то даже та незначительная сумма, которую художник может полу¬чить в результате выставки-продажи, для нашей страны — почти богатство. Есть шанс привезти, скажем, компью¬тер, продать здесь и устроить свой быт... Но мечта большинства — чтобы доб¬рый дядя-миллионер из Америки вывез художника «на год-другой и — пиши, жи¬ви, гуляй! Но при этом чаще всего пи¬ши то, что продается, живи, но в долг. Ты сам себе больше не принадлежишь.
Во всем — ощущение ненадежности, случайности, везения. Покупка не¬скольких картин заезжим «фирмачом» превращается в радужное видение бу¬дущего успеха. Но картины уходят, и это ничего не означает — ни настояще¬го признания, ни будущей выставки, ни подлинного интереса критиков и серьез¬ных экспертов. Просто вывоз колони¬ального товара.
Искусствоведы Запада прекрасно различают Илью Кабакова и коммерческого Михаила Шемякина. «Не советовал бы я вашим художникам связываться с нашими галереями, — сказал мне ди¬ректор Музея современного искусства во Франкфурте-на-Майне доктор Ам¬ман. — Это сломает их».
Еще как ломает! Возникает впечатле¬ние, что авангард просто-таки стремится стать коммерческим искусством. Если приятель «попал в жилу» — почему бы не попробовать писать, как он? Да и как уговорить художника ради отечества жить хуже, чем он мог бы или надеет¬ся? Бытие определяет...
Поневоле вспомнишь о тяжёлых вре¬менах подполья. Была в этом какая-то чистота эксперимента — выживания в разреженном воздухе, где дышать мож¬но было только тем, что писал.)
— Саша, ты, наверное, на собствен¬ном примере знаешь, каким драматич¬ным бывает столкновение наших худож¬ников с западным рынком...
— Начнем с того, что сейчас у нас ничего не работает для создания собственного рынка. Когда нарушена связь между оценивающим и двигательным аппаратом — либо паралич, либо идиотия. У нас в обществе, допустим, паралич, как говорят экономисты. За десятилетия мы умудрились создать какое-то промежуточное государство, без азиатских корней, без европей¬ской свободы личности. Мы все по¬рвали. А теперь еще рушится и раз¬работанная советской властью систе¬ма связей.
Художественного рынка мы се¬бе не представляем. Американ¬ские банки предлагают вкладывать деньги не только в землю, но и в кар¬тины. А нам непонятно, что картина может быть материальной ценностью. Или она бесценна, или вообще ничего не стоит! Европеец при этом умеет сопротивляться рыночному или праг¬матичному взгляду на жизнь. Из это¬го сопротивления порой и создается настоящая культура. А мы, в частно¬сти русские художники, на себе по¬чувствовали, что находимся вне ду¬ховных европейских ценностей и вне азиатских корней. Я, например, да и многие из нас стояли со штыком напе¬ревес к коллективной системе Союза художников. Мои друзья диссидент¬ского склада полемизировали как бы с плакатами. Вся наша среда выстрои¬лась против Политбюро ЦК КПСС, против неких социальных законов, как оказалось, условных. Законы рас¬пались. Выходит, мы сопротивлялись фикции, воздуху. Создали нечто фактически на обочине культуры.
Так вот, когда мы столкнулись с европейской или американской систе¬мой отношений в искусстве, перед на¬ми разверзлась черная яма. Если на¬до было заранее к чему-то готовить¬ся, так это к рынку, бизнесу, который делают на тебе.
У нас не разработана система на¬логообложения на валютные заработки. Либо продразверстка, либо ты уголовник. Любой западный галерейщик, любой посредник прекрасно зна¬ет о нашем шатком юридическом по¬ложении, знает, что мы абсолютно бесправны. Нас обманывают, а мы тратим время, силы, нервы на то, чтобы выиграть какие-то копейки. Это уже совсем далеко от искусства. Ху¬дожники, видя это, начинают звереть и маршем идут по Европе, заодно оскорбляя настоящих ценителей, которые хотят с нами работать. Начи¬нается грязь. Серьезные и мощные галереи уже говорят, что с русскими невозможно работать. Ведь связую¬щим звеном между галереей и художником чаще всего становится русский эмигрант, уехавший, лет десять назад, и ему нужны деньги. На контрактах и комиссионных нас обманывают, как хотят. А советские чиновники и орга¬низации, которые должны были за¬щищать нас, ничуть не лучше. И ты между двух огней: с одной сторо¬ны, тебя могут обмануть западные партнеры, с другой — тебе самому нужно обмануть советских чиновни¬ков, иначе голым останешься...
(Несколько в сторону.
Как в нашей стране становятся аван¬гардистами? По-разному, разумеется. Учтем и то, что эмансипированное евро¬пейское искусство справедливо числит наш авангард у себя в арьергарде. И все же случай Саши Захарова мне ка¬жется характерным.
Итак, года четыре назад Саша был неплохим пейзажистом. В сапогах и ват¬нике, с этюдником выбирался «на природу». Во время депрессии, ко¬гда Саша три недели провалялся в больнице, появилась графика того рода, как и нынешние его работы. Точнее, еще в детстве нравилось разрисовывать школьные учебники всякими уродцами. «Своего рода доморощенный сюрреа¬лизм, особенно когда это совмещалось с портретами вождей. Этакий домашний цинизм. Кто бы мог подумать, что из этого что-то получится?» А теперь внешние обстоятельства.)
— Нужны были деньги. К 25 годам у меня уже было двое детей, зато от¬сутствовала квартира. Нищета — это ломает. Я художник, член молодеж¬ного творческого объединения, имел «корочки», а работал дворником, сто¬рожем, работал в кинотеатрах, столо¬вой. И вот однажды около салона на Октябрьской увидел я старого знако¬мого — он продавал крошечные картиночки, в ладошку, из-под полы. Постояв с ним, я убедился, что он за час зарабатывает столько, сколько я за месяц да еще унижаясь...
И я решил, что вот он, единствен¬ный способ поправить финансовое положение. Играючи, я очень скоро за¬работал достаточно, чтобы плюнуть на Союз художников со всей его офи¬циальной командой, тем более что уже надоело. Тогда я почувство¬вал впервые законы рынка... Нужда отступила, и появилась возможность заниматься чем-нибудь «кайфовым». А что «кайфово»? Я же «говорящий» художник — я стал заниматься болтологией тусовками по райкомам — для себя, для команды. Появилась куча знакомых — в министерствах культуры, в партийных верхах. Выс¬тавки, группы... Формы легализации андерграунда.
(В предисловии к финскому каталогу критик Киммо Сарье весьма серьезно анализирует нынешнее творчество Саши Заxapoвa. Со ссылками на Михаила Бахтина — смеховая культура, примерами Франческо Клемента и Жана Мишеля Баскиата — деструктурная позиция! — и даже эпиграфом из речей М. С. Горбачева. Мне же по поводу Сашиных картин пришлось признаться, что... как бы мягче выразиться… в общем, с моим пиететом к классическому русскому авангарду, уважением к нонконформи¬стам-шестидесятникам... я не уверена, что это серьезное искусство, уф!)
— Да я и сам то, что делаю, искусством не считаю.
Я — паяц. Наношу на пейзаж лу¬бочные картинки, потом тексты — из частушек, из надписей в туалетах. Это фольклор. Я абсолютно неудобо¬варимый. Я сознательно выстраиваю антитезу европейской эстетике, по¬стоянно ёрничаю.
Мои картины — иллюстрация моих реакций на определенные штампы жизни. В качестве «интерьерной» живописи они не годятся. Скорее, вы¬зывают любопытство... Как этнография.
— Ты всерьез считаешь интерес к вам этнографическим?
— Более того, мне кажется, что наша «экзотика» по большей части ангажирована нами. Мы же стараемся свои идеи переложить на их язык, с их акцентом...
— Ты считаешь, что соцарт — не только искусство, сколько советология, выраженная живописью? Игра с мифами?
— Конечно. Европеец воспринимает это извне. Для того чтобы он понял то, что нам абсолютно ясно, (о нас самих), Булатов встает на сторону европейца, берет плакат и расска¬
зывает ему, рисуя, что такое «совет¬ский дух». Как бы делается сноска. Существует ангажемент, и он выполнен. Соцарт ведь тоже заверчен в коммерческий барабан, хотя главные его представители — люди пожилые. Но в чистом своем виде в нем хотя бы не было желания приспособиться к рынку. Зато есть вторая, третья волна соцарта с просто различной
формой: от абстракции и до «новых диких» нашего розлива. Их покупают в дорогие интерьеры, в гостиные...
Вне зависимости от стиля то, что сейчас уходит на Запад, — все это этнография. Пусть ею забавляются американские или европейские сред¬ние слои, пусть на этом утверждают¬ся и заглушают свои страхи. Никакой «азиатской заразы» нет. Потому что они все-таки нас боятся. Как только начинаешь им демонстрировать «звериное мурло», они вспомина¬ют о тоталитарно-военизированной энергетике, которая в нас заложена. Мы сейчас создаем им момент раз¬рядки. Демонстрируем имитацию, раз¬личные формы приспособления.
— Саша, скоро ли кончится мода на советский авангард? Каковы твои прогнозы?
— Уже кончается. Что от нас нуж¬но? Купить наши идеологемы, купить дешево и заполнить бреши в европейском интересе к тому, что делается в «малых народах». Пропадает экзотичность, русским искусством заполнилась вся Европа. Сейчас начала заполняться Америка. В прошлом году у нас была поклевка с Австралией. Мы уже вели переговоры с эмигран¬тами второго поколения — бизнесменами. Они предлагают выставки на курортах, побережье...
В конце концов через пару лет все утрясется и каждый займет свое ис¬тинное место. Большинство, я думаю, эмигрируют и утонут там. Кто-то смо¬жет удержаться на низком или сред¬нем коммерческом уровне, обеспечи¬вая эмиграцию.
— Много беспокойства слышится по поводу «утечки» современного искусства из страны. Мы и так уже по¬теряли шедевры русского авангарда 20-х годов...
— Русский авангард 20-х годов принадлежит мировой культуре, так же, как и Россия в начале века принадлежала мировой культуре и экономике. Сейчас все, что делается нами,
не авангард, во-первых, и не нацио¬нальное достояние, во-вторых. Я считаю — пусть вывозят все, что хотят. Надо будет, мы вернем все обратно. Как только в России нача¬лась концентрация капитала, началось и меценирование культуры и вывоз из Европы всего, что нам интересно. Прошлым летом я был на советско-американской конференции в качестве приглашенного. Три дня унижений! На слайдах показывали деятелей культуры типа Хаммера и перечисля¬ли — кто чего и на сколько мил¬лионов долларов вывез из России. «До 17 года вы были крупнейшими покупателями, а теперь вы крупней¬шие продавцы. Мы у вас покупали, покупаем и будем покупать. И выво¬зить будем...»
— Тебе не жалко?
— Нет. Все вернется, но только в том случае, если будет образована но¬вая экономическая система, которая позволит стране выживать на между¬народном рынке. Тогда будет и внут¬ренний рынок, да и искусство будет другое. И сопротивление коммерции появится. И культурная среда, выра¬батывающая свои оценки. Если на мою выставку приходит десяток дис¬сидентов с женами и десяток сума¬сшедших мужиков — это не среда. Если на выставку Шилова стоит ог¬ромная очередь, как за мебелью, — это тоже не среда. Для того чтобы образовалась взаимосвязь художника с культурной средой, нужно, чтобы Репин написал Третьякову: Павел Михайлович, недавно видел у Крам¬ского одну вещь. Я считаю, что она должна быть в вашей галерее, люди должны ее видеть. Так вот, необходи¬мы деятели, ответственные за культу¬ру (не по должности), обладающие ин¬теллектуальной базой для того, чтобы оценивать, и способные субсидировать искусство. Короче, нужны те, без ко¬го не состоялся бы серебряный век русской культуры — не собственно художники, а деловые люди типа и масштаба Дягилева. Но где они?
Наталья Троепольская, Литературная газета, 11 апреля 1990 г., № 15 (5289)
«Возьмите кисть – напишите лучше!»
Илья Глазунов
«...и сказали Ему… какою властью Ты это делаешь или кто дал Тебе власть сию?».
Евангелие от Луки.
Великий эксперимент
Илья Сергеевич грустно улыбался. В квартире охап¬ки цветов напоминали о про¬шедшем юбилее. Илье Серге¬евичу — 60. Но юбиляр был невёсел. Он кинул взгляд на представителя ордена иезуитов, сидевшего в гостиной за круглым столом.
— Падре приехал от само¬го папы римского на откры¬тие моей выставки. А вернисаж все переносится. Министр Губенко, видное не хочет, что¬бы Глазунову аплодировали от лица папы римского. Раз¬ве так поступили бы с Ше¬мякиным или Эрнстом Неизвестньм? Кто-то говорит, для того, чтобы министр вовремя открыл выставку, мне нужно было в свое время с третьей волной эмиграции уехать за границу и вернуться. Тогда бы меня встречали, как ге¬роя, и мою палитру бы с кистями несли за мной, как за Ростроповичем виолончель. Чтобы иметь счастье пока¬зать свой скромный труд, я должен буду заплатить, 250 тысяч рублей за амортизацию Манежа. У нас любят похоронить, а потом плакать, как на могиле Высоцкого.
В дверь постоянно звонили. Глазунов, переходя с итальянского на русский, бежал то к двери, то к телефону. Вошла девушка, тихая, милая... «Моя дочь Верочка, — представил Глазунов, — ко мне, Верочка, пришли из «Комсомольской правды». По¬кажи им, Верочка, «Огонек». Честно скажу, не ожидал: видели, как подали «Вели¬кий эксперимент»? — почти, искренне восклицал Глазу¬нов. — Быстренько, Верочка, принеси журнал: цок-цок, цок...
— Илья Сергеевич, — поз¬вали из коридора,— к вам пришли из «Русского флага» поздра-вить.
— Так что ж не заходят?
— Погоны чистят...
Спустя минуту в дверях вы¬росли «поручик Голицын и корнет Оболенский». Их по¬явление воодушевило хозяи¬на дома, и он, схватив трех¬цветное полотнище, стоящее в углу, восклик-нул: «Вот оно, будущее России!»
Зрелище было впечатляю¬щим. Тем более что с фотог¬рафий, стоящих на камине, наблюдал за всем этим сам Государь-император.
Вернулась Верочка с журналом.
С иллюстрации последней картины Глазунова «Великий эксперимент» взглянули на нас грешники и святые. Ну, и злющая картина.
Мы стали рассматривать ее, как комикс.
Кровавый цвет звезды бил в глаза. Звезды воссияли на кремлевских башнях, сверг¬нув пре-жний герб России — двуглавых орлов. С них-то и все началось...
— Я долго думал над ве¬ликим экспериментом: отку¬да он начался? — сказал Гла¬зунов.— Эта великая звезда появлялась у Гете — и сразу появлялся сатана, как дух разрушения.
...Над звездой — изможден¬ное лицо Христа, идущего на Голгофу истории с березовым крестом: в 17-м Христа в России распяли, и Бог ее ос¬тавил.
Антихрист, стал править ми¬ром. Церковь дьявола помечена звездочкой… сатанинской.
Большая звезда управляет¬ся маленькой, еле заметной, но всемогущей; при каждом прави-теле есть свой «кукло¬вод»...
Из-за звезды, как преступ¬ник из-за угла, выглядывает комиссар Юровский — палач Госу-даря и его семьи. Он пьет кровавый чай из стака¬на.
Царь у Глазунова — в свя¬тых. Он — мученик.
Никогда в истории человечества, писал Солженицын, не было такого великого исхода и тотального геноцида, который был произведен в СССР. Первая волна эмигрантов очень оби-жалась, когда их называли эмигрантами. Это были беженцы. Однажды к Шаляпину пришли два ко¬миссара и увидели на стене пищали, мушкеты… «Господа, — стал оправдываться Ша¬ляпин,— это — антиквари¬ат». А ему: «Ты скажи спасибо, гадина, что мы не ведем тебя в ЧК». Когда они ушли, Шаляпин сказал: «На¬ша страна перестала быть нашей. Пора уезжать.»
Кто-то стал беженцами...
Кто-то продолжал бороться: Врангель, Деникин, Корнилов, Колчак... Может быть, они, подобно Георгию Победоносцу, пытались противостоять той силе, что захватила Россию в виде змеи, ужалившей ее в самое сердце?..
Сегодня символ Георгия Победоносца — на студенче¬ских билетах Всероссийской акаде-мии живописи, ваяния и зодчества, созданной... Глазу¬новым.
...Несколько лет назад мы были свидетелями, как Глазу¬нова сгоняли с трибуны свое¬го съезда художники. Он пы¬тался рассказать о создании будущей Российской академии худо-жеств. В зале захлопали, затопали... «Академия будет!» — зло бросил Глазунов, уходя со сцены. Художники не выбрав Глазунова делегатом съезда, словно отказывали ему в профес-сиональном достоинстве.
Да, в зале сидело немало хороших художников, но их не знали… не почитали, как этого «выскочку, умеющего выживать при всех режимах».
Говорят, что нужно ска¬зать все — и не попасть в Бастилию.
Глазунова не любили не только за то, что он умел сказать…
Не любили и за то, что умел не попасть в Бастилию.
Послом русской культуры в Советском Союзе назвал его один американец.
Существует мнение, что Глазунов создает академию в погоне, за славой. Но создать академию — это построить нечто вроде пирамиды Хеопса. Каждый бы так гнался за славой — и нам бы что-то перепало. Ведь суриковский институт, напоминает последнее время университет имени Патриса Лумумбы.
…3наменитым Глазунов стал после первой своей пер¬сональной выставки. Она проходила в Центральном доме работников искусств. На третий день уже выстроилась очередь, и книга отзывов за¬пестрела записями восторжен¬ными и ругательными впере¬межку. Середины не бы-ло. «Нью-Йорк геральд трибюн» 7 февраля 1957 года писала: «Вокруг Глазунова идут ярост-ные дебаты. Он знает, что его первая персональная вы¬ставка определит судьбу. Бу¬дет ли он известен, войдет ли в советское искусство, зави¬сит от реакции критиков. Они могут уничто-жить его наклеив ярлыки «буржуазности», или поддержать объявив соц¬реализмом».
Его учитель Йогансон на¬писал, что это «недоучивший¬ся студент, возомнивший се¬бя гени-ем». Хотя Глазунов доучился и даже получил «тройку» за диплом и распре¬деление учителем черчения и рисования в Иваново. Была ли эта оценка красной це¬ной его творчества или это было что-то вроде «возмез¬дия» за успех, но стена не¬приятия художниками Глазу¬нова возни-кла уже тогда.
— Накануне очередного съезда художников, — рас¬сказывал Алексей Аджубей, — Хру-щев проводил сове¬щание в ЦК партии. И вдруг присутствующие художники во главе с Гера-симовым начали нападать на Глазунова. Хрущев их одернул: ведь этот молодой художник — да¬же не член союза. Но определение «глазуновщина» с их уст сорвалось уже тогда.
Илью Сергеевича никак нельзя причислить к людям, мирящимся с обстоятельства¬ми. Он шел не всегда прямы¬ми путями, но когда росток, пробиваясь от земли через ас¬фальт, искрив-ляется, то при¬чина его искривленности — не в стебле, а в асфальте.
Портрет Джины Лоллобриджиды он писал в снимаемой на Кутузовском проспекте комна-те под мастерскую. Было это во время междуна¬родного кинофестиваля. На сеанс из ее про-граммы «вык¬роили» три, часа. Глазунов писал портрет соусом, Актри¬са попросила сделать маслом. Глазунов сказал: «Либо оста¬етесь, либо я приезжаю в Италию».
После сеанса стали фотог¬рафироваться. И тут Фурцеву, по словам Глазунова, и «обжали» на поездку.
В Италии он написал порт¬реты Феллини, Мазины, Ви¬сконти... Вот, вам и ленин¬градский сирота... Вот вам и в своем отечестве нет проро¬ков.
Москве тогда поползли слухи, что покровительствует Глазунову Италия благодаря его жене, Нине Виноградовой, из рода Бенуа. Потомок Бенуа был главным художником «Ла Скала».
Говорят, что его жена, «по натуре была тоньше, а он сильнее». Но, служа ему, — по сло-вам Владимира Солоухина, — она же, конечно, служила идее. Если бы он каких-нибудь ко-шечек лепил-рисовал, то вряд ли она была рядом...»
Своим творчеством Глазу¬нов ставил на повестку дня «русский вопрос», и это вы¬зывало отчаянные споры.
— Считаете ли вы, — спрашивали у Глазунова на встречах с художником зрители,— что русская культура уничтожалась сознательно?
— Да, — отвечал Глазунов.
— Что это за сила?
— Та, что уничтожала другую национальную культуру. В Италии под видом реставрации счищались фрески.
— От чего произошло такое понятие, как русофил?
— От умаления националь¬ного и самобытного. Русский народ был долго донором-нацией.
— Какое высказывание вам дорого?
— Столыпин сказал: вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия.
Глазунов, поднимая «рус¬ский вопрос», заострял и дру¬гие. И это, как писал зритель в книге отзывов, в эпоху рыб, набравших в рот воды, когда русский боялся назваться рус¬ским, а ев-рей — евреем. На недавней пресс-конференции Глазунов сказал, что у Из¬раиля нужно учить-ся быть нацией, а не строем.
— Когда меня принимали в академию, — вспоминал ху¬дожник, — и прокатили в очеред-ной раз, во время обсуж¬дения встал один, известный скульптор и сказал: «Я про¬тив Глазу-нова потому, что Глазунов — националист и антисемит». Тогда встал дру¬гой скульптор и сказал, что не надо так утверждать, по¬тому что Глазунов — интернационалист: он был во Вь-етнаме, оформил спектакль в еврейском камерном театре. Антисемит — тот, кто борется против еврейской культу¬ры, а Глазунов борется «за» русскою культур. Тогда встал третий человек и допол¬нил вышесказанное: «Я со¬ветский еврей, видел спек¬такль, оформленный Глазуновым. Так мог оформить только сионист».
— Но вы же против левого искусства? — уточняли зрители.
Мне нравится поэзия Гумилева, и я люблю левое искусство, но не левее сердца.
— Не кажется ли вам, что ваш спор о России похож на панихиду? .
— Панихиды поют по усоп¬шим — мы еще живы.
Самым парадоксальным ху¬дожником назвали Глазунова американцы. «Интерес, как к ле-тающим тарелкам».
Однажды мы разговарива¬ли с Глазуновым в его знаме¬нитой башне - мастерской, внутри кажущейся храмом, если бы не эти сосиски, с ап¬петитом поглощаемые гостя¬ми под скорбны-ми взглядами святых на иконных досках. И иностранный журналист, прихлебывая красное вино, принесенное с собой (Глазу¬нов не пьет), мучился вопро¬сом, почему у Глазунова та¬кая сногсшибательная попу¬лярность. Китч?
Небезызвестный Урмас Отт, все допытывающийся у Глазунова, миллионер он или нет, по-ведал, что Глазунов на четвертом месте по попу¬лярности в мире, если счи¬тать на первом Са-львадора Дали...
Оба художника повели се¬бя, как лучшие ученики дья¬вола: они слишком вызыва¬юще о се-бе заговорили. И каждый в меру своего таланта притянул к себе славу и обратил внимание на свою «страну грез». Но Дали, из¬влекая на полотна сюр, рас¬сек кистью космос, Глазу¬нов — историю.
Говорят, одно время книга отзывов уходила «на верха», и по ней изучали отношение наро-да к России. Зa любовь к России его сторонники го¬товы были простить худож¬нику любые промахи.
По четвергам в Манеж к зрителям приходил на расп¬раву сам автор.
— В вашей картине есть недостаток, — замечали зрители относительно изо6paжен-ного художником крест¬ного хода,— вы упустили большого человека. Это — великий князь Сергей Алек¬сандрович, сын Александpa П. Его убили, когда он был наследни-ком. Вся семья возлагала на него надежды.
— У нас все правители бы¬ли мудрыми, — отвечал Гла¬зунов, — Россия никогда, не была тюрьмой народов. Мы создали огромную империю не колониальным, а мирным путем. К нам все тянулись. Быть в составе империи по¬читали за честь. И каждый член царской семьи досто¬ин исторического портрета. Мы не торговали, как амери¬канцы, неграми. Гувернеров-французов палкой нельзя бы¬ло выгнать. Швейцарцы от¬крывали двери, поэтому наз¬вание «швейцар» осталось. Финны в Петербург молоко привозили…
— Какая опасность сейчас угрожает России?
— Опасность, которая у всех на глазах: исчезновение России как великого духов¬ного на-ционального мира. Русские больше всего постра¬дали в ходе великого экспе¬римента. Среднюю Рос¬сию нарекли Нечерноземьем. Это унижение. Еще с пропис¬ной буквы пишут. Это Не¬черноземье кормило весь мир хлебом. Это — великая Россия. Что за привычка клич¬ки давать — и определять их видом почв.
С утра до ночи в квартире Глазунова толкутся люди, нужные, ненужные, высоко¬постав-ленные... Такой образ жизни может вызвать зависть только у непосвященного. Пик его рабо-чего времени приходится на вечер. Засыпа¬ет он после полуночи, не без снотворного. Вче-рашний Гла¬зунов нисколько не похож на сегодняшнего: мрачность может переходить в весе¬лость, веселость — в язвительность... «Он, как дрож¬жи, — обмолвился Солоу¬хин,— в чис-том виде его есть нельзя, но он нужен Рос¬сии...»
Было время, когда защит¬ников памятников Москвы пытались дискредитировать, как ме-шающих строить ком¬мунистический город. Подпи¬санное интеллигенцией письмо об охране памятников сто¬лицы Хрущёв порвал, с гне¬вом, людям, мол, жить негде, а вы о каких-то па-мятниках печетесь.
Когда Хрущев докладывал Сталину о протестах по доводу сноса старинных зданий, Каганович советовал взрывать их ночью...
...Ночью, вспоминали оче¬видцы, уже в брежневские времена, снесли один из флигелей старинного здания, что возле станции метро «Кропоткинская», А наутро народ встал перед бульдозером и стоял, пока Глазунов мотал¬ся «по кабинетам» и пока не пришла команда «зда-ния не трогать».
Это не без участия Глазу¬нова при Комитете защиты мира была создана секция по охране памятников, не без его помощи было принято постановление об охранных зонах столицы... «Условия были лютые,— сказал один из членов ВООПИК, — шли на все. И чувствовали на это право. Потому что защищали «не населенный пункт, пост¬роенный архитектором Посохи-ным, а защищали Москву».
— Как вы относитесь к обществу «Память»? — спросили Глазунова на встрече в Манеже.
— Этот вопрос уже осточертел. Я к обществу «Память» не имею никакого отношения. Я сам себе память. Но если это провокационный вопрос «Памяти», отвечу: будь я ее членом она бы орудовала поумней.
— К какому лагерю вы се¬бя относите? Обидно, если вы разойдетесь с русскими писателями...
— С русскими писателями я не расходился. Я — один из немногих — плохо ли, хо¬рошо, — сделавший много иллюстраций к русским писа¬телям. Но меня все куда-то хотят загнать: раньше хотели чтобы я был членом партии, потом «Памяти», потом в каком нибудь блоке. Я дружу с Распутиным, Коротичем, Дементьевым, Солоухиным... Да, да: у каждого свой путь... При царе был съезд русских художников, на, нем выступали Репин и Кандин¬ский. Спорили, а потом рас¬ходились и творили. У нас это проклятое вдолбленное по¬нятие классовой борьбы тре¬бует всегда кому-то и чему-то принадлежать, к какой-ни¬будь первичной организации. Я никому и ничему не при¬надлежу. Я боюсь только Бо¬га и совести.
— Как вы относитесь к предпринимательству?
— Что сделал бы Третья¬ков без своей фабрики? Да без его фабрики не было бы Третьяковки.
— Как вы относитесь к стремлению различных республик выйти из СССР?
— Если пришли гости и хотят уйти, то зачем их задерживать? Но, уходя, не прихваты-вайте люстру хозяина или шубу. Нам очень многие задолжали благодаря коммунистическо-му господству в нашей стране. Нельзя распоряжаться национальными богатствами во благо мифа об интернациональном значении.
— Вы известны как зна¬ток масонства...
— Я не согласен, что я самый большой знаток масон¬ства.
— У вас любопытная фило¬софия.
—Я своей философии ни¬когда не заявлял. Моя фило¬софия — в постулатах право¬славия...
— В «Великом эксперимен¬те» вы пришли от голубого неба к голубому экрану теле¬визора. Чтобы вернуться к го¬лубому небу, нужно снова пройти через эксперимент?
— Через возрождение всех исторических основ русского народа. Небо и сейчас над на¬ми. Прочтите Ключевского про Сергия Радонежского, спасшего Россию от азиатско¬го нашест-вия. Пробьет уроч¬ный час, и поколения новых людей выведут нацию с вре¬менно покинутой исторической дороги. И сегодня свечи над ракой Сергия Радонеж¬ского горят, как никогда.
...Если бы Глазунов, стал объяснять всем, почему он такой, a нe другой, от него бы давно осталась, «горстка пеп¬ла». Всем, кто его не прини¬мает, он: говорит: «Возьмите кисть и напи-шите лучше» — и ищет контакт с теми, кто его принимает. Собирается писать портрет папы римско¬го, принца Люксембургского. Американцы предлагают ку¬пить все его работы, Герма¬ния дает миллион марок за «Мистерию».
Лишь два года назад «Мистерию» разрешили выставить.
И мало кому известна исто¬рия, почему ее не выставля¬ли.
Конец семидесятых... Вы¬ставка должна была прохо¬дить на Кузнецком мосту.
Но за четыре часа до открытия разыгралась драма.
..На Кузнецкий постоянно звонили. Глазунов был дер¬ган и зол.
— Переписывать Солжени¬цына на Брежнева не буду!
...Когда Солженицына за публикацию «Архипелага» специальным самолетом вывезли за границу, на 56-м году жизни вместившей работу, жизнь в лагерях, войну, бо¬лезнь, клевету, травлю, в прессе пошли обличительные подвалы. Пригласили и Гла¬зунова в одну из центра-льных газет, чтобы он подписался под возмущенной статьей. Глазунов попросил дать почи-тать «ГУЛАГ». «А другие и так подписывали!» «Видимо, они читали», — сказал Глазу¬нов уже в дверях. Он возвра¬щался к себе на Арбат, уви¬дел в одной из витрин на пла¬кате, симво-лизирующем дружбу, дети, взявшись за руки, шли в национальных костю¬мах, и только рус-ский маль¬чик шел в шортах, белой рубашке и пионерском галсту¬ке. И когда в «Мистерии» он написал Солженицына под возвышающимся в гробу Сталиным на катафалке из Бранден-бургских ворот, несомненно, видел в образе писателя трагическую судьбу русского самосо-знания, а в мальчике, увиденном на плакате, — ее последствия.
Раздался звонок от Щелокова.
— Все, что ты заработал, — услышал Глазунов, — у тебя отберут. Дети пойдут по миру.
Глазунов побледнел, вокруг рта у него образовался белый треугольник, и он стал валиться на пол...
Глазунов писал портрет Щелокова, но сам Щелоков, портретом был недоволен, то и дело подбегал к холсту.
Разве у меня такие тонкие гу¬бы? И уши
топорщатся? И требовал переделать заново. На портрете выходил холодный царедворец с леденящим разрезом тонких губ я взглядом Малюты Скуратова.
Часа в три дня стали подъ¬езжать послы. Милиционеры у входа отбирали пригласи¬тельные билеты, сообщая, что открытие выставки не со¬стоится.
Скандал вокруг «Мистерии» обнажил двуединый воп¬рос: кто показывает и кто прячет ху-дожника Илью Гла¬зунова, но разгадки не дал. Один человек, увидев на «Мистерии» портрет самого I Глазунова с палитрой, зеркальной палитрой в руках, в которой отражается каждый смотрящий ее, назвал карти¬ну «Мафией XX века».
Два года назад «Мисте¬рию» разрешили выставить. Ночью на афишах Дворца молодежи, где выставка про¬ходила, крупно вывели: «Бей Глазунова».
Та же надпись появилась и нынешней весной во время предвыборной кампании.
Так что слухи по поводу смерти художника, видимо, преждевременны.
Т. Хорошилова, Г. Резанов.
Комсомольская правда, 19 июля 1990 г.

Просмотров: 1263 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Илья Глазунов
«...и сказали Ему… какою властью Ты это делаешь или кто дал Тебе власть сию?».
Евангелие от Луки.
Великий эксперимент
Илья Сергеевич грустно улыбался. В квартире охап¬ки цветов напоминали о про¬шедшем юбилее. Илье Серге¬евичу — 60. Но юбиляр был невёсел. Он кинул взгляд на представителя ордена иезуитов, сидевшего в гостиной за круглым столом.
— Падре приехал от само¬го папы римского на откры¬тие моей выставки. А вернисаж все переносится. Министр Губенко, видное не хочет, что¬бы Глазунову аплодировали от лица папы римского. Раз¬ве так поступили бы с Ше¬мякиным или Эрнстом Неизвестньм? Кто-то говорит, для того, чтобы министр вовремя открыл выставку, мне нужно было в свое время с третьей волной эмиграции уехать за границу и вернуться. Тогда бы меня встречали, как ге¬роя, и мою палитру бы с кистями несли за мной, как за Ростроповичем виолончель. Чтобы иметь счастье пока¬зать свой скромный труд, я должен буду заплатить, 250 тысяч рублей за амортизацию Манежа. У нас любят похоронить, а потом плакать, как на могиле Высоцкого.
В дверь постоянно звонили. Глазунов, переходя с итальянского на русский, бежал то к двери, то к телефону. Вошла девушка, тихая, милая... «Моя дочь Верочка, — представил Глазунов, — ко мне, Верочка, пришли из «Комсомольской правды». По¬кажи им, Верочка, «Огонек». Честно скажу, не ожидал: видели, как подали «Вели¬кий эксперимент»? — почти, искренне восклицал Глазу¬нов. — Быстренько, Верочка, принеси журнал: цок-цок, цок...
— Илья Сергеевич, — поз¬вали из коридора,— к вам пришли из «Русского флага» поздра-вить.
— Так что ж не заходят?
— Погоны чистят...
Спустя минуту в дверях вы¬росли «поручик Голицын и корнет Оболенский». Их по¬явление воодушевило хозяи¬на дома, и он, схватив трех¬цветное полотнище, стоящее в углу, восклик-нул: «Вот оно, будущее России!»
Зрелище было впечатляю¬щим. Тем более что с фотог¬рафий, стоящих на камине, наблюдал за всем этим сам Государь-император.
Вернулась Верочка с журналом.
С иллюстрации последней картины Глазунова «Великий эксперимент» взглянули на нас грешники и святые. Ну, и злющая картина.
Мы стали рассматривать ее, как комикс.
Кровавый цвет звезды бил в глаза. Звезды воссияли на кремлевских башнях, сверг¬нув пре-жний герб России — двуглавых орлов. С них-то и все началось...
— Я долго думал над ве¬ликим экспериментом: отку¬да он начался? — сказал Гла¬зунов.— Эта великая звезда появлялась у Гете — и сразу появлялся сатана, как дух разрушения.
...Над звездой — изможден¬ное лицо Христа, идущего на Голгофу истории с березовым крестом: в 17-м Христа в России распяли, и Бог ее ос¬тавил.
Антихрист, стал править ми¬ром. Церковь дьявола помечена звездочкой… сатанинской.
Большая звезда управляет¬ся маленькой, еле заметной, но всемогущей; при каждом прави-теле есть свой «кукло¬вод»...
Из-за звезды, как преступ¬ник из-за угла, выглядывает комиссар Юровский — палач Госу-даря и его семьи. Он пьет кровавый чай из стака¬на.
Царь у Глазунова — в свя¬тых. Он — мученик.
Никогда в истории человечества, писал Солженицын, не было такого великого исхода и тотального геноцида, который был произведен в СССР. Первая волна эмигрантов очень оби-жалась, когда их называли эмигрантами. Это были беженцы. Однажды к Шаляпину пришли два ко¬миссара и увидели на стене пищали, мушкеты… «Господа, — стал оправдываться Ша¬ляпин,— это — антиквари¬ат». А ему: «Ты скажи спасибо, гадина, что мы не ведем тебя в ЧК». Когда они ушли, Шаляпин сказал: «На¬ша страна перестала быть нашей. Пора уезжать.»
Кто-то стал беженцами...
Кто-то продолжал бороться: Врангель, Деникин, Корнилов, Колчак... Может быть, они, подобно Георгию Победоносцу, пытались противостоять той силе, что захватила Россию в виде змеи, ужалившей ее в самое сердце?..
Сегодня символ Георгия Победоносца — на студенче¬ских билетах Всероссийской акаде-мии живописи, ваяния и зодчества, созданной... Глазу¬новым.
...Несколько лет назад мы были свидетелями, как Глазу¬нова сгоняли с трибуны свое¬го съезда художники. Он пы¬тался рассказать о создании будущей Российской академии худо-жеств. В зале захлопали, затопали... «Академия будет!» — зло бросил Глазунов, уходя со сцены. Художники не выбрав Глазунова делегатом съезда, словно отказывали ему в профес-сиональном достоинстве.
Да, в зале сидело немало хороших художников, но их не знали… не почитали, как этого «выскочку, умеющего выживать при всех режимах».
Говорят, что нужно ска¬зать все — и не попасть в Бастилию.
Глазунова не любили не только за то, что он умел сказать…
Не любили и за то, что умел не попасть в Бастилию.
Послом русской культуры в Советском Союзе назвал его один американец.
Существует мнение, что Глазунов создает академию в погоне, за славой. Но создать академию — это построить нечто вроде пирамиды Хеопса. Каждый бы так гнался за славой — и нам бы что-то перепало. Ведь суриковский институт, напоминает последнее время университет имени Патриса Лумумбы.
…3наменитым Глазунов стал после первой своей пер¬сональной выставки. Она проходила в Центральном доме работников искусств. На третий день уже выстроилась очередь, и книга отзывов за¬пестрела записями восторжен¬ными и ругательными впере¬межку. Середины не бы-ло. «Нью-Йорк геральд трибюн» 7 февраля 1957 года писала: «Вокруг Глазунова идут ярост-ные дебаты. Он знает, что его первая персональная вы¬ставка определит судьбу. Бу¬дет ли он известен, войдет ли в советское искусство, зави¬сит от реакции критиков. Они могут уничто-жить его наклеив ярлыки «буржуазности», или поддержать объявив соц¬реализмом».
Его учитель Йогансон на¬писал, что это «недоучивший¬ся студент, возомнивший се¬бя гени-ем». Хотя Глазунов доучился и даже получил «тройку» за диплом и распре¬деление учителем черчения и рисования в Иваново. Была ли эта оценка красной це¬ной его творчества или это было что-то вроде «возмез¬дия» за успех, но стена не¬приятия художниками Глазу¬нова возни-кла уже тогда.
— Накануне очередного съезда художников, — рас¬сказывал Алексей Аджубей, — Хру-щев проводил сове¬щание в ЦК партии. И вдруг присутствующие художники во главе с Гера-симовым начали нападать на Глазунова. Хрущев их одернул: ведь этот молодой художник — да¬же не член союза. Но определение «глазуновщина» с их уст сорвалось уже тогда.
Илью Сергеевича никак нельзя причислить к людям, мирящимся с обстоятельства¬ми. Он шел не всегда прямы¬ми путями, но когда росток, пробиваясь от земли через ас¬фальт, искрив-ляется, то при¬чина его искривленности — не в стебле, а в асфальте.
Портрет Джины Лоллобриджиды он писал в снимаемой на Кутузовском проспекте комна-те под мастерскую. Было это во время междуна¬родного кинофестиваля. На сеанс из ее про-граммы «вык¬роили» три, часа. Глазунов писал портрет соусом, Актри¬са попросила сделать маслом. Глазунов сказал: «Либо оста¬етесь, либо я приезжаю в Италию».
После сеанса стали фотог¬рафироваться. И тут Фурцеву, по словам Глазунова, и «обжали» на поездку.
В Италии он написал порт¬реты Феллини, Мазины, Ви¬сконти... Вот, вам и ленин¬градский сирота... Вот вам и в своем отечестве нет проро¬ков.
Москве тогда поползли слухи, что покровительствует Глазунову Италия благодаря его жене, Нине Виноградовой, из рода Бенуа. Потомок Бенуа был главным художником «Ла Скала».
Говорят, что его жена, «по натуре была тоньше, а он сильнее». Но, служа ему, — по сло-вам Владимира Солоухина, — она же, конечно, служила идее. Если бы он каких-нибудь ко-шечек лепил-рисовал, то вряд ли она была рядом...»
Своим творчеством Глазу¬нов ставил на повестку дня «русский вопрос», и это вы¬зывало отчаянные споры.
— Считаете ли вы, — спрашивали у Глазунова на встречах с художником зрители,— что русская культура уничтожалась сознательно?
— Да, — отвечал Глазунов.
— Что это за сила?
— Та, что уничтожала другую национальную культуру. В Италии под видом реставрации счищались фрески.
— От чего произошло такое понятие, как русофил?
— От умаления националь¬ного и самобытного. Русский народ был долго донором-нацией.
— Какое высказывание вам дорого?
— Столыпин сказал: вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия.
Глазунов, поднимая «рус¬ский вопрос», заострял и дру¬гие. И это, как писал зритель в книге отзывов, в эпоху рыб, набравших в рот воды, когда русский боялся назваться рус¬ским, а ев-рей — евреем. На недавней пресс-конференции Глазунов сказал, что у Из¬раиля нужно учить-ся быть нацией, а не строем.
— Когда меня принимали в академию, — вспоминал ху¬дожник, — и прокатили в очеред-ной раз, во время обсуж¬дения встал один, известный скульптор и сказал: «Я про¬тив Глазу-нова потому, что Глазунов — националист и антисемит». Тогда встал дру¬гой скульптор и сказал, что не надо так утверждать, по¬тому что Глазунов — интернационалист: он был во Вь-етнаме, оформил спектакль в еврейском камерном театре. Антисемит — тот, кто борется против еврейской культу¬ры, а Глазунов борется «за» русскою культур. Тогда встал третий человек и допол¬нил вышесказанное: «Я со¬ветский еврей, видел спек¬такль, оформленный Глазуновым. Так мог оформить только сионист».
— Но вы же против левого искусства? — уточняли зрители.
Мне нравится поэзия Гумилева, и я люблю левое искусство, но не левее сердца.
— Не кажется ли вам, что ваш спор о России похож на панихиду? .
— Панихиды поют по усоп¬шим — мы еще живы.
Самым парадоксальным ху¬дожником назвали Глазунова американцы. «Интерес, как к ле-тающим тарелкам».
Однажды мы разговарива¬ли с Глазуновым в его знаме¬нитой башне - мастерской, внутри кажущейся храмом, если бы не эти сосиски, с ап¬петитом поглощаемые гостя¬ми под скорбны-ми взглядами святых на иконных досках. И иностранный журналист, прихлебывая красное вино, принесенное с собой (Глазу¬нов не пьет), мучился вопро¬сом, почему у Глазунова та¬кая сногсшибательная попу¬лярность. Китч?
Небезызвестный Урмас Отт, все допытывающийся у Глазунова, миллионер он или нет, по-ведал, что Глазунов на четвертом месте по попу¬лярности в мире, если счи¬тать на первом Са-львадора Дали...
Оба художника повели се¬бя, как лучшие ученики дья¬вола: они слишком вызыва¬юще о се-бе заговорили. И каждый в меру своего таланта притянул к себе славу и обратил внимание на свою «страну грез». Но Дали, из¬влекая на полотна сюр, рас¬сек кистью космос, Глазу¬нов — историю.
Говорят, одно время книга отзывов уходила «на верха», и по ней изучали отношение наро-да к России. Зa любовь к России его сторонники го¬товы были простить худож¬нику любые промахи.
По четвергам в Манеж к зрителям приходил на расп¬раву сам автор.
— В вашей картине есть недостаток, — замечали зрители относительно изо6paжен-ного художником крест¬ного хода,— вы упустили большого человека. Это — великий князь Сергей Алек¬сандрович, сын Александpa П. Его убили, когда он был наследни-ком. Вся семья возлагала на него надежды.
— У нас все правители бы¬ли мудрыми, — отвечал Гла¬зунов, — Россия никогда, не была тюрьмой народов. Мы создали огромную империю не колониальным, а мирным путем. К нам все тянулись. Быть в составе империи по¬читали за честь. И каждый член царской семьи досто¬ин исторического портрета. Мы не торговали, как амери¬канцы, неграми. Гувернеров-французов палкой нельзя бы¬ло выгнать. Швейцарцы от¬крывали двери, поэтому наз¬вание «швейцар» осталось. Финны в Петербург молоко привозили…
— Какая опасность сейчас угрожает России?
— Опасность, которая у всех на глазах: исчезновение России как великого духов¬ного на-ционального мира. Русские больше всего постра¬дали в ходе великого экспе¬римента. Среднюю Рос¬сию нарекли Нечерноземьем. Это унижение. Еще с пропис¬ной буквы пишут. Это Не¬черноземье кормило весь мир хлебом. Это — великая Россия. Что за привычка клич¬ки давать — и определять их видом почв.
С утра до ночи в квартире Глазунова толкутся люди, нужные, ненужные, высоко¬постав-ленные... Такой образ жизни может вызвать зависть только у непосвященного. Пик его рабо-чего времени приходится на вечер. Засыпа¬ет он после полуночи, не без снотворного. Вче-рашний Гла¬зунов нисколько не похож на сегодняшнего: мрачность может переходить в весе¬лость, веселость — в язвительность... «Он, как дрож¬жи, — обмолвился Солоу¬хин,— в чис-том виде его есть нельзя, но он нужен Рос¬сии...»
Было время, когда защит¬ников памятников Москвы пытались дискредитировать, как ме-шающих строить ком¬мунистический город. Подпи¬санное интеллигенцией письмо об охране памятников сто¬лицы Хрущёв порвал, с гне¬вом, людям, мол, жить негде, а вы о каких-то па-мятниках печетесь.
Когда Хрущев докладывал Сталину о протестах по доводу сноса старинных зданий, Каганович советовал взрывать их ночью...
...Ночью, вспоминали оче¬видцы, уже в брежневские времена, снесли один из флигелей старинного здания, что возле станции метро «Кропоткинская», А наутро народ встал перед бульдозером и стоял, пока Глазунов мотал¬ся «по кабинетам» и пока не пришла команда «зда-ния не трогать».
Это не без участия Глазу¬нова при Комитете защиты мира была создана секция по охране памятников, не без его помощи было принято постановление об охранных зонах столицы... «Условия были лютые,— сказал один из членов ВООПИК, — шли на все. И чувствовали на это право. Потому что защищали «не населенный пункт, пост¬роенный архитектором Посохи-ным, а защищали Москву».
— Как вы относитесь к обществу «Память»? — спросили Глазунова на встрече в Манеже.
— Этот вопрос уже осточертел. Я к обществу «Память» не имею никакого отношения. Я сам себе память. Но если это провокационный вопрос «Памяти», отвечу: будь я ее членом она бы орудовала поумней.
— К какому лагерю вы се¬бя относите? Обидно, если вы разойдетесь с русскими писателями...
— С русскими писателями я не расходился. Я — один из немногих — плохо ли, хо¬рошо, — сделавший много иллюстраций к русским писа¬телям. Но меня все куда-то хотят загнать: раньше хотели чтобы я был членом партии, потом «Памяти», потом в каком нибудь блоке. Я дружу с Распутиным, Коротичем, Дементьевым, Солоухиным... Да, да: у каждого свой путь... При царе был съезд русских художников, на, нем выступали Репин и Кандин¬ский. Спорили, а потом рас¬ходились и творили. У нас это проклятое вдолбленное по¬нятие классовой борьбы тре¬бует всегда кому-то и чему-то принадлежать, к какой-ни¬будь первичной организации. Я никому и ничему не при¬надлежу. Я боюсь только Бо¬га и совести.
— Как вы относитесь к предпринимательству?
— Что сделал бы Третья¬ков без своей фабрики? Да без его фабрики не было бы Третьяковки.
— Как вы относитесь к стремлению различных республик выйти из СССР?
— Если пришли гости и хотят уйти, то зачем их задерживать? Но, уходя, не прихваты-вайте люстру хозяина или шубу. Нам очень многие задолжали благодаря коммунистическо-му господству в нашей стране. Нельзя распоряжаться национальными богатствами во благо мифа об интернациональном значении.
— Вы известны как зна¬ток масонства...
— Я не согласен, что я самый большой знаток масон¬ства.
— У вас любопытная фило¬софия.
—Я своей философии ни¬когда не заявлял. Моя фило¬софия — в постулатах право¬славия...
— В «Великом эксперимен¬те» вы пришли от голубого неба к голубому экрану теле¬визора. Чтобы вернуться к го¬лубому небу, нужно снова пройти через эксперимент?
— Через возрождение всех исторических основ русского народа. Небо и сейчас над на¬ми. Прочтите Ключевского про Сергия Радонежского, спасшего Россию от азиатско¬го нашест-вия. Пробьет уроч¬ный час, и поколения новых людей выведут нацию с вре¬менно покинутой исторической дороги. И сегодня свечи над ракой Сергия Радонеж¬ского горят, как никогда.
...Если бы Глазунов, стал объяснять всем, почему он такой, a нe другой, от него бы давно осталась, «горстка пеп¬ла». Всем, кто его не прини¬мает, он: говорит: «Возьмите кисть и напи-шите лучше» — и ищет контакт с теми, кто его принимает. Собирается писать портрет папы римско¬го, принца Люксембургского. Американцы предлагают ку¬пить все его работы, Герма¬ния дает миллион марок за «Мистерию».
Лишь два года назад «Мистерию» разрешили выставить.
И мало кому известна исто¬рия, почему ее не выставля¬ли.
Конец семидесятых... Вы¬ставка должна была прохо¬дить на Кузнецком мосту.
Но за четыре часа до открытия разыгралась драма.
..На Кузнецкий постоянно звонили. Глазунов был дер¬ган и зол.
— Переписывать Солжени¬цына на Брежнева не буду!
...Когда Солженицына за публикацию «Архипелага» специальным самолетом вывезли за границу, на 56-м году жизни вместившей работу, жизнь в лагерях, войну, бо¬лезнь, клевету, травлю, в прессе пошли обличительные подвалы. Пригласили и Гла¬зунова в одну из центра-льных газет, чтобы он подписался под возмущенной статьей. Глазунов попросил дать почи-тать «ГУЛАГ». «А другие и так подписывали!» «Видимо, они читали», — сказал Глазу¬нов уже в дверях. Он возвра¬щался к себе на Арбат, уви¬дел в одной из витрин на пла¬кате, симво-лизирующем дружбу, дети, взявшись за руки, шли в национальных костю¬мах, и только рус-ский маль¬чик шел в шортах, белой рубашке и пионерском галсту¬ке. И когда в «Мистерии» он написал Солженицына под возвышающимся в гробу Сталиным на катафалке из Бранден-бургских ворот, несомненно, видел в образе писателя трагическую судьбу русского самосо-знания, а в мальчике, увиденном на плакате, — ее последствия.
Раздался звонок от Щелокова.
— Все, что ты заработал, — услышал Глазунов, — у тебя отберут. Дети пойдут по миру.
Глазунов побледнел, вокруг рта у него образовался белый треугольник, и он стал валиться на пол...
Глазунов писал портрет Щелокова, но сам Щелоков, портретом был недоволен, то и дело подбегал к холсту.
Разве у меня такие тонкие гу¬бы? И уши
топорщатся? И требовал переделать заново. На портрете выходил холодный царедворец с леденящим разрезом тонких губ я взглядом Малюты Скуратова.
Часа в три дня стали подъ¬езжать послы. Милиционеры у входа отбирали пригласи¬тельные билеты, сообщая, что открытие выставки не со¬стоится.
Скандал вокруг «Мистерии» обнажил двуединый воп¬рос: кто показывает и кто прячет ху-дожника Илью Гла¬зунова, но разгадки не дал. Один человек, увидев на «Мистерии» портрет самого I Глазунова с палитрой, зеркальной палитрой в руках, в которой отражается каждый смотрящий ее, назвал карти¬ну «Мафией XX века».
Два года назад «Мисте¬рию» разрешили выставить. Ночью на афишах Дворца молодежи, где выставка про¬ходила, крупно вывели: «Бей Глазунова».
Та же надпись появилась и нынешней весной во время предвыборной кампании.
Так что слухи по поводу смерти художника, видимо, преждевременны.
Т. Хорошилова, Г. Резанов.
Комсомольская правда, 19 июля 1990 г.

Распродажа
Наталия Семенова
Прошедший год немало сделал для ликвидации «белых пятен» в нашей истории. Начали просачиваться сведения и о нарушениях в культурной политике, музейной в частности. Впервые можно гласно сказать о позорных распродажах иcтopико-xудожественных ценностей в 20-30-е годы.
Россия традиционно торговавшая пенькой и кормившая хлебом Евро¬пу, картины, напротив, покупала. С достопамятных времен известна единст¬венная значительная. распродажа, бывшая скорее безрассудной акцией со стороны Николая I, нежели коммерческим пред¬приятием: в 1854 году благодаря санкцио¬нированному монархом аукциону эрмитаж¬ных картин на рынок было выброшено бо¬лее, тысячи полотен.
Однако если во время «николаевской» чистки Эрмитажа, ставившей задачу освободить музей от второстепенных произведений, из собрания исчез не один десяток первоклассных вещей по небрежности вы¬сококвалифицированных экспертов, то при «сталинской», наоборот, шедевры, вычища¬лись, исключительно планомерно.
Необходимость распродаж обосновыва¬лась в наш век просто: произведение ис¬кусства не может быть достоянием одной страны, владелицы, ценность шедевров неизменна и не зависит от их местонахож¬дения. Полученные средства позволят нам в кратчайшие сроки преодолеть отсталость и построить социализм: исторический про¬гресс неизбежен, пролетарская революция завоюет мир, и «все наше к нам вернется». Окончательно эта идея начала вопло¬щаться, в жизнь практически одновремен¬но со свертыванием нэпа. В 1928-м, за год до наступления «великого перелома», правительственным решением негласно отменялся декрет, запрещавший вывоз и продажу за границу «предметов особого художественного и исторического значе¬ния», принятый осенью 1918 года. Гор¬дость и достояние нации превратились в рыночный товар.
Звание «первый покупатель» по праву принадлежит главе Иракской нефтяной компании и страстному коллекционеру Галусту Гюльбенкяну, чья художественная коллекция в Лиссабоне на сегодняшний день по-прежнему остается одним из лучших частных музеев мира. При посредничестве созданной в 1925 году «главной конторы госторга по скупке и реализации антикварных вещей» — «Антиквариата» — агенты Гюльбенкяна отобрали для своего патрона первые эрмитажные вещи, в том числе «Благовещение» нидерландского мастера XV века Дирка Баутса. Вслед за этой сделкой, принесшей нам 54 тысячи фунтов стерлингов, в Берлине, несмотря на протесты со стороны немецких деятелей культуры и русской эмиграции, прошел второй аукцион произведений искусства из советских музеев.
Очередная партия картин для коллекции Гюльбенкяна была отобрана и продана в 1930 году: «Портрет Елены Фоурман» Ру¬бенса, «Портрет Титуса», «Портрет ста¬рика» и «Александр Великий» Рембрандта, «Меццетен» Ватто, «Урок музыки» Терборха, «Купальщицы» Ланкре, а также ста¬туя Дианы Гудона. Все сделки, совершав¬шиеся в абсолютной тайне с обеих сторон имели сложную, многоступенчатую процедуру, начинавшуюся с отбора, про¬верки и наблюдения за упаковкой вещей в Ленинграде, кончавшуюся вторичной эксnepтизой в Берлине.
Открыв беспредельный советский худо¬жественный рынок, Гюльбенкян тем не менее вполне осознавал аморальность со¬вершаемых сделок. Сохраняя дружеские отношения с председателем Госбанка, бывшим торговым представителем СССР во Франции Г. Л. Пятаковым, он не раз предостерегал его, а в его лице и Советское правительство о последствиях, которые бу¬дут иметь предпринимаемые ими акции в том случае, если станут достоянием широ¬кой гласности. Распродажа национального достояния, способная, по его мнению, по¬дорвать престиж правительства в глазах своего народа, кроме нравственно-этиче¬ских, имела непосредственные экономиче¬ские противопоказания. С одной стороны, продажа второстепенных вещей не могла дать действительно солидных сумм для фи¬нансирования экономики (из-за чего и при¬шли к выводу, что выгоднее торговать ше¬деврами), а с другой — поразивший Евро¬пу и Америку экономический кризис, «ве¬ликая депрессия» ежемесячно снижали цены на рынке, и на художественном в том числе. Впрочем, падение цен в 1930— 1932 годах больше чем вполовину по отно¬шению к уровню 1928 года не приостановило энтузиастов-бизнесменов из Наркомата торговли.
Слишком много и часто писавший Пята¬кову, давний знакомый наркома внешней торговли А. И. Микояна Гюльбенкян был выведен из игры. Его место занял министр финансов США Эндрю Меллон, семья ко¬торого контролировала гигантский капитал. Оценивавшиеся раньше фунтами стерлин¬гов шедевры стали измеряться долларами.
Несмотря на секретность, в которой держались покупки Гюльбенкяна, сведения о них докатились до нью-йоркской антикварной фирмы «М. Кнодлер и К°», с помощью которой, по словам американских историков искусств, для Меллона под покровом тайны было устроено «несколько наиболее фантастических художественных приобретений из всех, когда-либо имевших место в истории». За один год, с апреля 1930-го по апрель 1931-го Меллон купил двадцать одну эрмитажную картину, заплатив за все шесть с половиной мил¬
лионов долларов (по тогдашнему валют¬ному курсу равнявшихся 12 миллионам рублей). Поразителен даже не подбор полотен, явно сделанный понимающим советчиком, а безразличие и покорность, с которыми продававшие разоряли собрание. Из 5 эрмитажных картин Рафаэля ушли две, из двух Тьеполо — одна; ушли и бывшие в единственном экземпляре, «коренные» эр¬митажные Боттичелли, Перуджино и Ван Эйки, представленные работами обоих братьев — Яна и Хуберта. Случай с Рем¬брандтом являлся исключением: полотен великого голландца действительно было «слишком» много — 42: в избытке оказа¬лись Ван Дейк и Рубенс, но ведь Халс, Шарден, Веронезе и Веласкес исчислялись далеко не десятками.
Желание состоятельного покупателя иметь ту или иную картину становилось законом для тех, от кого зависела судьба бесценных полотен. Картины добывали лю¬быми способами. «Венера перед зерка¬лом» Тициана, только что переданная Эр¬митажем Музею изящных искусств и укра¬сившая в 1930-м его залы, с легкостью бы¬ла снята со стены и в апреле 1931-го про¬дана Меллону в придачу к «Мадонне Альба» Рафаэля. Она ушла за океан за 1 166 400 долларов. А новая гордость будущего ГМИИ имени А. С. Пушкина — Тициан — за полмиллиона. Всего на выруч¬ку от двух картин можно было купить у Форда аж несколько десятков или даже сотню-другую тракторов!
В 1930 году распродажи достигли сво¬его апогея. Вслед за державшимися в тай¬не покупками Гюльбенкяна и Меллона на¬чались публичные акции вроде распрода¬жи на ежегодном весеннем Лейпцигском аукционе, давшем чистый доход более од¬ного миллиона долларов. Однако подобная сумма складывалась в первую очередь за счет количества выброшенных на рынок картин и гравюр. К 1931 году, как и пред¬полагал Гюльбенкян, цены упали еще впо¬ловину. Но на весеннем аукционе опять распродавались рисунки и гравюры XVIII века из московских и ленинградских музеев, а вместе с ними и мосоловская коллекция офортов Рембрандта и голландской школы — гордость отдела гравюры и рисунка Музея изящных искусств.
Пошли с молотка и ценности ленинград¬ского Строгановского дворца-музея: 256 предметов, в том числе работы Кранаха, Рембрандта, Рубенса, Рейсдаля и Ван Дейка, разошлись в течение трех дней на аукционе Лепке в Берлине в мае 1931 года чуть больше чем за полмиллиона долларов. Тогда же были проданы бюсты Вольтера и Дидро французского скульптора Гудона. Бюст Дидро недавно фигурировал на проходившей в ГМИИ имени А. С. Пушкина выставке «Век Просвещения» с пометкой в каталоге: «куплено на аукционе Р. Лепке». В каталогах многих музеев мира легко можно обнаружить данные о прежнем ме¬сте хранения шедевров, украшающих ныне большие и малые собрания. География их довольно обширна: диптих Хуберта Ван Эйка в музее Метрополитен в Нью-Йорке. «Триумф Нептуна и Амфитриты» Пуссена в Филадельфийском художественном музее. «Христос и самаритянин» Рембрандта в Художественной галерее Тимкен в Сан-Диего, «Пир Клеопатры» Тьеполо в Нацио¬нальной галерее Виктории в Мельбурне. «Концерт» Платцера 8 Национальном гер¬манском музее в Нюрнберге.
Московские музеи в целом пострадали меньше ленинградских. Не надо забы¬вать, что Ленинград вообще был в особой немилости «гения всех, времен и народов» и за свое проклятое царское прошлое, и за славное рево¬люционное. Впрочем, и Музей изящных искусств, обложенный данью со стороны «Антиквариата», борясь и сопротивляясь, год за годом поставлял картины в анти¬кварный магазин на Тверской, 26, за что ему полагалось 20 процентов от продаж¬ных сумм. Ежегодно музею приходилось изымать из своих фондов от ста и больше картин.
В 1932 гаду настала очередь работ французских импрессионистов и постим¬прессионистов из собраний С. И. Щукина и И. А. Морозова, объединенных в Музей нового западного искусства. Но, как это ни странно звучит сегодня, когда Ван Гог продается больше чем за 50 миллионов, на покупку полотен Дега, Пикассо, Сезанна европейские антиквары шли неохотно. Их пугали не цены, бывшие предельно низкими, — от 6 до 50 тысяч, а волновала сама возможность легализа¬ции приобретенных картин. Ведь жив был еще С. И. Щукин, находились в эмигра¬ции морозовские наследники. Поэтому из предложенных к продаже «Антиквариатом» в начале 1933 года через постоянных бер¬линских посредников девяти полотен были проданы только два: «Ночное кафе» Ван Гога и «Портрет - жены художника» Се¬занна, которые сегодня благополучно осе¬ли в американских музеях.
Наступивший 1933 год оказался пере¬ломным не только для европейской исто¬рии. С приходом к власти Гитлера Рапальский договор 1922 года, по которому Германия признавала Советский Союз и, соответственно, национализацию частной собственности, перестал соблюдаться, «Антиквариат» лишился единственного места заключения торговых сделок (по¬скольку другие страны изначально отказа¬лись от позорной роли посредника). Это в свою очередь (а не известная ныне за¬писка Сталина, будущему академику И. А. Орбели) положило конец массовым рас¬продажам сокровищ из советских музеев. По иронии судьбы, не по своей воле пре¬дохранившая наши музеи от разорения в 1933-м, гитлеровская Германия уничто¬жила и вывезла все возможное в 1941-м.
Завершила же «первую музейную пятилетку» продажа Синайского кодекса, по¬даренного в свое время Александру II» и хранившегося в Публичной библиотеке. Синайский патерик, остающийся по сей день «самым полным и самым древним текстом Нового завета», был куплен Бри¬танским музеем за полмиллиона долларов. Хотя «американский король букинистов» А. С. В. Розенбах предлагал го¬раздо большую цену, советская сторона уступила его «научному учреждению, поль¬зующемуся во всем мире заслуженно вы¬сокой репутацией». Поэтому, как считает кое-кто из современных ученых, подобный «патриотический шаг» сделал нам только честь.
«Колоссальное напряжение сил и огром¬ные финансовые трудности», вынуждав¬шие прибегать к распродажам историко-культурных ценностей, к середине 30-х не ослабели. Однако с потерей рынка сбыта на Западе произведения искусства начали уходить непосредственно из СССР, несмотря на официально действующий, но фактически отмененный запрет вывоза предметов особой ценности. В москов¬ских антикварных и комиссионных магази¬нах западные дипломаты скупали уникаль¬ные предметы старины. В роли поставщи¬ков выступали музеи и сами владельцы, вынужденные расставаться с семейными реликвиями. Произведения искусства и драгоценности тысячами сдавались в торгсины в обмен за возможность «отовари¬вания» в валютных магазинах, бывших спа¬сительными в условиях, карточной систе¬мы и уже тогда вожделенными.
В 1934 году на европейский рынок вы¬плыло большое количество работ придвор¬ного ювелира Карла Фаберже, а в Нью-Йорке открылась Хаммеровская галерея. В 1935 году в ней прошла выставка «150 лет русской живописи», составленная из произведений, купленных в СССР, и в 1939-м — «Выставка русских императорских сокровищ из Зимнего дворца. Цар¬ского села и других царских дворцов», с которой иконы распродавались, например, от 3500 до 95 долларов за штуку. Снос церквей и уничтожение памятников древ¬нерусского искусства сделали скупку икон, художественных произведений культового и светского назначения обычным явлени¬ем. Но если в Хаммеровской галерее ико¬ны и вещи из царских, апартаментов поку¬пали жены американских миллионеров то американский посол Дж. Девис делал это непосредственно в Москве. В роковой 1937 год ему удалось приобрели вещи высочайшего класса. Его коллекционер¬ской деятельности покровительствовало Советское правительство. Девису помогли отобрать 23 иконы XVI—XVIII веков из Третьяковской галереи, Чудова монастыря и Киево-Печерской лавры. А уже caмостоятельно на советские рубли он и его жена покупали в затоваренных антикварных ма¬газинах живопись, драгоценности, сереб¬ряные и золотые предметы, фарфор и, ко¬нечно, непревзойденные изделия Карла Фаберже.
В 1935-м закрылись торгсины. В 1937-м вслед за полосой массовых репрессий на¬чал опускаться железный занавес и при¬ток иностранцев в столицу прекратился. В 1938-м негласно отмененный запрет вывоза произведений искусства за границу был восстановлен.
Война нанесла советским музеям огром¬ный урон. Но крупнейшие коллекции бла¬годаря самоотверженности музейных со¬трудников, принуждаемых долгие годы подчиняться спущенным сверху инструк¬циям грабить собственные собрания, были спасены. Даже в период активной борьбы с космополитизмом, формализмом и абст¬ракционизмом картины не выставляли, на¬долго погребали в запасники, отсылали в провинциальные музеи, но не продавали. Живопись XX века все больше росла в цене. Особенно дорогим стал русский авангард, оказавшийся неожиданно пре¬красным подарком «нужным» людям и вы¬годной формой обмена. К счастью, поло¬тен Малевича и Кандинского, о которых не раз уже писали, обладавших высокой валютной стоимостью, успели подарить и обменять совсем немного.
Последние 70 лет формирование наших музеев идет исключительно за счет внут¬реннего художественного рынка. Покупки на Западе путем всенародной подписки, к которым взывает социально активизировав¬шаяся общественность, невозможны в си¬лу неконвертируемости советского рубля. Зато западные коллекционеры чувствуют себя на нашем художественном рынке вольготно. Изменилась только сфера их интересов. Цены на старое западное ис¬кусство и искусство конца XIX — начала XX,. века, на которое не находилось поку¬пателей в 1932-м, теперь выросли боль¬шем чем на 1000 процентов. Стоимость русского авангарда тоже исчисляется мил¬лионами. Живопись советских художников 60—70-х годов, сохраняющих за собой наименование «неофициальных», также не дешева, но более доступна.
Пока что для многих из нас «неофици¬альное искусство» последних десятилетий только примета времени. Его роль в це¬лостной картине искусства XX века еще не определилась. Нельзя окончательно сказать, какие имена уйдут в небытие, а какие останутся в золотом фонде культу¬ры. Но прошлое учит нас быть осторожными. Невольно вспоминаются загадочные русские Щукин и Морозов, покупавшие Матисса и Пикассо, еще не слишком жа¬луемых на родине. И по сей день фран¬цузы не стесняются сокрушаться и пора¬жаться собственной художественной сле¬поте.
Советский авангард, который только со¬бираются покупать наши музеи, уже жи¬вет иной жизнью. Не в контексте воспе¬тых Ильей Кабаковым коммунальных квар¬тир, а на стенах престижных европейских галерей и дорогих апартаментов. Ибо сегодня искусство там, на Западе, оконча¬тельно сделалось самой выгодной формой помещения капитала, показателем благо¬состояния и принадлежности к определен¬ному классу.
Мы включаемся в международный ры¬нок; в казну идут проценты от валютных сделок. Мастерские модных художников опустели, круг их почитателей вышел за рамки друзей и знакомых. Но не пора ли задуматься над тем, что результатом всего происходящего у нас на глазах будет изъятие, безвозвратная потеря определенного пласта нашего искусства, еще до конца не понятого и не познанного...
Литературная газета, №49(5219), 7 декабря 1988 г.
Просмотров: 961 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Наталия Семенова
Прошедший год немало сделал для ликвидации «белых пятен» в нашей истории. Начали просачиваться сведения и о нарушениях в культурной политике, музейной в частности. Впервые можно гласно сказать о позорных распродажах иcтopико-xудожественных ценностей в 20-30-е годы.
Россия традиционно торговавшая пенькой и кормившая хлебом Евро¬пу, картины, напротив, покупала. С достопамятных времен известна единст¬венная значительная. распродажа, бывшая скорее безрассудной акцией со стороны Николая I, нежели коммерческим пред¬приятием: в 1854 году благодаря санкцио¬нированному монархом аукциону эрмитаж¬ных картин на рынок было выброшено бо¬лее, тысячи полотен.
Однако если во время «николаевской» чистки Эрмитажа, ставившей задачу освободить музей от второстепенных произведений, из собрания исчез не один десяток первоклассных вещей по небрежности вы¬сококвалифицированных экспертов, то при «сталинской», наоборот, шедевры, вычища¬лись, исключительно планомерно.
Необходимость распродаж обосновыва¬лась в наш век просто: произведение ис¬кусства не может быть достоянием одной страны, владелицы, ценность шедевров неизменна и не зависит от их местонахож¬дения. Полученные средства позволят нам в кратчайшие сроки преодолеть отсталость и построить социализм: исторический про¬гресс неизбежен, пролетарская революция завоюет мир, и «все наше к нам вернется». Окончательно эта идея начала вопло¬щаться, в жизнь практически одновремен¬но со свертыванием нэпа. В 1928-м, за год до наступления «великого перелома», правительственным решением негласно отменялся декрет, запрещавший вывоз и продажу за границу «предметов особого художественного и исторического значе¬ния», принятый осенью 1918 года. Гор¬дость и достояние нации превратились в рыночный товар.
Звание «первый покупатель» по праву принадлежит главе Иракской нефтяной компании и страстному коллекционеру Галусту Гюльбенкяну, чья художественная коллекция в Лиссабоне на сегодняшний день по-прежнему остается одним из лучших частных музеев мира. При посредничестве созданной в 1925 году «главной конторы госторга по скупке и реализации антикварных вещей» — «Антиквариата» — агенты Гюльбенкяна отобрали для своего патрона первые эрмитажные вещи, в том числе «Благовещение» нидерландского мастера XV века Дирка Баутса. Вслед за этой сделкой, принесшей нам 54 тысячи фунтов стерлингов, в Берлине, несмотря на протесты со стороны немецких деятелей культуры и русской эмиграции, прошел второй аукцион произведений искусства из советских музеев.
Очередная партия картин для коллекции Гюльбенкяна была отобрана и продана в 1930 году: «Портрет Елены Фоурман» Ру¬бенса, «Портрет Титуса», «Портрет ста¬рика» и «Александр Великий» Рембрандта, «Меццетен» Ватто, «Урок музыки» Терборха, «Купальщицы» Ланкре, а также ста¬туя Дианы Гудона. Все сделки, совершав¬шиеся в абсолютной тайне с обеих сторон имели сложную, многоступенчатую процедуру, начинавшуюся с отбора, про¬верки и наблюдения за упаковкой вещей в Ленинграде, кончавшуюся вторичной эксnepтизой в Берлине.
Открыв беспредельный советский худо¬жественный рынок, Гюльбенкян тем не менее вполне осознавал аморальность со¬вершаемых сделок. Сохраняя дружеские отношения с председателем Госбанка, бывшим торговым представителем СССР во Франции Г. Л. Пятаковым, он не раз предостерегал его, а в его лице и Советское правительство о последствиях, которые бу¬дут иметь предпринимаемые ими акции в том случае, если станут достоянием широ¬кой гласности. Распродажа национального достояния, способная, по его мнению, по¬дорвать престиж правительства в глазах своего народа, кроме нравственно-этиче¬ских, имела непосредственные экономиче¬ские противопоказания. С одной стороны, продажа второстепенных вещей не могла дать действительно солидных сумм для фи¬нансирования экономики (из-за чего и при¬шли к выводу, что выгоднее торговать ше¬деврами), а с другой — поразивший Евро¬пу и Америку экономический кризис, «ве¬ликая депрессия» ежемесячно снижали цены на рынке, и на художественном в том числе. Впрочем, падение цен в 1930— 1932 годах больше чем вполовину по отно¬шению к уровню 1928 года не приостановило энтузиастов-бизнесменов из Наркомата торговли.
Слишком много и часто писавший Пята¬кову, давний знакомый наркома внешней торговли А. И. Микояна Гюльбенкян был выведен из игры. Его место занял министр финансов США Эндрю Меллон, семья ко¬торого контролировала гигантский капитал. Оценивавшиеся раньше фунтами стерлин¬гов шедевры стали измеряться долларами.
Несмотря на секретность, в которой держались покупки Гюльбенкяна, сведения о них докатились до нью-йоркской антикварной фирмы «М. Кнодлер и К°», с помощью которой, по словам американских историков искусств, для Меллона под покровом тайны было устроено «несколько наиболее фантастических художественных приобретений из всех, когда-либо имевших место в истории». За один год, с апреля 1930-го по апрель 1931-го Меллон купил двадцать одну эрмитажную картину, заплатив за все шесть с половиной мил¬
лионов долларов (по тогдашнему валют¬ному курсу равнявшихся 12 миллионам рублей). Поразителен даже не подбор полотен, явно сделанный понимающим советчиком, а безразличие и покорность, с которыми продававшие разоряли собрание. Из 5 эрмитажных картин Рафаэля ушли две, из двух Тьеполо — одна; ушли и бывшие в единственном экземпляре, «коренные» эр¬митажные Боттичелли, Перуджино и Ван Эйки, представленные работами обоих братьев — Яна и Хуберта. Случай с Рем¬брандтом являлся исключением: полотен великого голландца действительно было «слишком» много — 42: в избытке оказа¬лись Ван Дейк и Рубенс, но ведь Халс, Шарден, Веронезе и Веласкес исчислялись далеко не десятками.
Желание состоятельного покупателя иметь ту или иную картину становилось законом для тех, от кого зависела судьба бесценных полотен. Картины добывали лю¬быми способами. «Венера перед зерка¬лом» Тициана, только что переданная Эр¬митажем Музею изящных искусств и укра¬сившая в 1930-м его залы, с легкостью бы¬ла снята со стены и в апреле 1931-го про¬дана Меллону в придачу к «Мадонне Альба» Рафаэля. Она ушла за океан за 1 166 400 долларов. А новая гордость будущего ГМИИ имени А. С. Пушкина — Тициан — за полмиллиона. Всего на выруч¬ку от двух картин можно было купить у Форда аж несколько десятков или даже сотню-другую тракторов!
В 1930 году распродажи достигли сво¬его апогея. Вслед за державшимися в тай¬не покупками Гюльбенкяна и Меллона на¬чались публичные акции вроде распрода¬жи на ежегодном весеннем Лейпцигском аукционе, давшем чистый доход более од¬ного миллиона долларов. Однако подобная сумма складывалась в первую очередь за счет количества выброшенных на рынок картин и гравюр. К 1931 году, как и пред¬полагал Гюльбенкян, цены упали еще впо¬ловину. Но на весеннем аукционе опять распродавались рисунки и гравюры XVIII века из московских и ленинградских музеев, а вместе с ними и мосоловская коллекция офортов Рембрандта и голландской школы — гордость отдела гравюры и рисунка Музея изящных искусств.
Пошли с молотка и ценности ленинград¬ского Строгановского дворца-музея: 256 предметов, в том числе работы Кранаха, Рембрандта, Рубенса, Рейсдаля и Ван Дейка, разошлись в течение трех дней на аукционе Лепке в Берлине в мае 1931 года чуть больше чем за полмиллиона долларов. Тогда же были проданы бюсты Вольтера и Дидро французского скульптора Гудона. Бюст Дидро недавно фигурировал на проходившей в ГМИИ имени А. С. Пушкина выставке «Век Просвещения» с пометкой в каталоге: «куплено на аукционе Р. Лепке». В каталогах многих музеев мира легко можно обнаружить данные о прежнем ме¬сте хранения шедевров, украшающих ныне большие и малые собрания. География их довольно обширна: диптих Хуберта Ван Эйка в музее Метрополитен в Нью-Йорке. «Триумф Нептуна и Амфитриты» Пуссена в Филадельфийском художественном музее. «Христос и самаритянин» Рембрандта в Художественной галерее Тимкен в Сан-Диего, «Пир Клеопатры» Тьеполо в Нацио¬нальной галерее Виктории в Мельбурне. «Концерт» Платцера 8 Национальном гер¬манском музее в Нюрнберге.
Московские музеи в целом пострадали меньше ленинградских. Не надо забы¬вать, что Ленинград вообще был в особой немилости «гения всех, времен и народов» и за свое проклятое царское прошлое, и за славное рево¬люционное. Впрочем, и Музей изящных искусств, обложенный данью со стороны «Антиквариата», борясь и сопротивляясь, год за годом поставлял картины в анти¬кварный магазин на Тверской, 26, за что ему полагалось 20 процентов от продаж¬ных сумм. Ежегодно музею приходилось изымать из своих фондов от ста и больше картин.
В 1932 гаду настала очередь работ французских импрессионистов и постим¬прессионистов из собраний С. И. Щукина и И. А. Морозова, объединенных в Музей нового западного искусства. Но, как это ни странно звучит сегодня, когда Ван Гог продается больше чем за 50 миллионов, на покупку полотен Дега, Пикассо, Сезанна европейские антиквары шли неохотно. Их пугали не цены, бывшие предельно низкими, — от 6 до 50 тысяч, а волновала сама возможность легализа¬ции приобретенных картин. Ведь жив был еще С. И. Щукин, находились в эмигра¬ции морозовские наследники. Поэтому из предложенных к продаже «Антиквариатом» в начале 1933 года через постоянных бер¬линских посредников девяти полотен были проданы только два: «Ночное кафе» Ван Гога и «Портрет - жены художника» Се¬занна, которые сегодня благополучно осе¬ли в американских музеях.
Наступивший 1933 год оказался пере¬ломным не только для европейской исто¬рии. С приходом к власти Гитлера Рапальский договор 1922 года, по которому Германия признавала Советский Союз и, соответственно, национализацию частной собственности, перестал соблюдаться, «Антиквариат» лишился единственного места заключения торговых сделок (по¬скольку другие страны изначально отказа¬лись от позорной роли посредника). Это в свою очередь (а не известная ныне за¬писка Сталина, будущему академику И. А. Орбели) положило конец массовым рас¬продажам сокровищ из советских музеев. По иронии судьбы, не по своей воле пре¬дохранившая наши музеи от разорения в 1933-м, гитлеровская Германия уничто¬жила и вывезла все возможное в 1941-м.
Завершила же «первую музейную пятилетку» продажа Синайского кодекса, по¬даренного в свое время Александру II» и хранившегося в Публичной библиотеке. Синайский патерик, остающийся по сей день «самым полным и самым древним текстом Нового завета», был куплен Бри¬танским музеем за полмиллиона долларов. Хотя «американский король букинистов» А. С. В. Розенбах предлагал го¬раздо большую цену, советская сторона уступила его «научному учреждению, поль¬зующемуся во всем мире заслуженно вы¬сокой репутацией». Поэтому, как считает кое-кто из современных ученых, подобный «патриотический шаг» сделал нам только честь.
«Колоссальное напряжение сил и огром¬ные финансовые трудности», вынуждав¬шие прибегать к распродажам историко-культурных ценностей, к середине 30-х не ослабели. Однако с потерей рынка сбыта на Западе произведения искусства начали уходить непосредственно из СССР, несмотря на официально действующий, но фактически отмененный запрет вывоза предметов особой ценности. В москов¬ских антикварных и комиссионных магази¬нах западные дипломаты скупали уникаль¬ные предметы старины. В роли поставщи¬ков выступали музеи и сами владельцы, вынужденные расставаться с семейными реликвиями. Произведения искусства и драгоценности тысячами сдавались в торгсины в обмен за возможность «отовари¬вания» в валютных магазинах, бывших спа¬сительными в условиях, карточной систе¬мы и уже тогда вожделенными.
В 1934 году на европейский рынок вы¬плыло большое количество работ придвор¬ного ювелира Карла Фаберже, а в Нью-Йорке открылась Хаммеровская галерея. В 1935 году в ней прошла выставка «150 лет русской живописи», составленная из произведений, купленных в СССР, и в 1939-м — «Выставка русских императорских сокровищ из Зимнего дворца. Цар¬ского села и других царских дворцов», с которой иконы распродавались, например, от 3500 до 95 долларов за штуку. Снос церквей и уничтожение памятников древ¬нерусского искусства сделали скупку икон, художественных произведений культового и светского назначения обычным явлени¬ем. Но если в Хаммеровской галерее ико¬ны и вещи из царских, апартаментов поку¬пали жены американских миллионеров то американский посол Дж. Девис делал это непосредственно в Москве. В роковой 1937 год ему удалось приобрели вещи высочайшего класса. Его коллекционер¬ской деятельности покровительствовало Советское правительство. Девису помогли отобрать 23 иконы XVI—XVIII веков из Третьяковской галереи, Чудова монастыря и Киево-Печерской лавры. А уже caмостоятельно на советские рубли он и его жена покупали в затоваренных антикварных ма¬газинах живопись, драгоценности, сереб¬ряные и золотые предметы, фарфор и, ко¬нечно, непревзойденные изделия Карла Фаберже.
В 1935-м закрылись торгсины. В 1937-м вслед за полосой массовых репрессий на¬чал опускаться железный занавес и при¬ток иностранцев в столицу прекратился. В 1938-м негласно отмененный запрет вывоза произведений искусства за границу был восстановлен.
Война нанесла советским музеям огром¬ный урон. Но крупнейшие коллекции бла¬годаря самоотверженности музейных со¬трудников, принуждаемых долгие годы подчиняться спущенным сверху инструк¬циям грабить собственные собрания, были спасены. Даже в период активной борьбы с космополитизмом, формализмом и абст¬ракционизмом картины не выставляли, на¬долго погребали в запасники, отсылали в провинциальные музеи, но не продавали. Живопись XX века все больше росла в цене. Особенно дорогим стал русский авангард, оказавшийся неожиданно пре¬красным подарком «нужным» людям и вы¬годной формой обмена. К счастью, поло¬тен Малевича и Кандинского, о которых не раз уже писали, обладавших высокой валютной стоимостью, успели подарить и обменять совсем немного.
Последние 70 лет формирование наших музеев идет исключительно за счет внут¬реннего художественного рынка. Покупки на Западе путем всенародной подписки, к которым взывает социально активизировав¬шаяся общественность, невозможны в си¬лу неконвертируемости советского рубля. Зато западные коллекционеры чувствуют себя на нашем художественном рынке вольготно. Изменилась только сфера их интересов. Цены на старое западное ис¬кусство и искусство конца XIX — начала XX,. века, на которое не находилось поку¬пателей в 1932-м, теперь выросли боль¬шем чем на 1000 процентов. Стоимость русского авангарда тоже исчисляется мил¬лионами. Живопись советских художников 60—70-х годов, сохраняющих за собой наименование «неофициальных», также не дешева, но более доступна.
Пока что для многих из нас «неофици¬альное искусство» последних десятилетий только примета времени. Его роль в це¬лостной картине искусства XX века еще не определилась. Нельзя окончательно сказать, какие имена уйдут в небытие, а какие останутся в золотом фонде культу¬ры. Но прошлое учит нас быть осторожными. Невольно вспоминаются загадочные русские Щукин и Морозов, покупавшие Матисса и Пикассо, еще не слишком жа¬луемых на родине. И по сей день фран¬цузы не стесняются сокрушаться и пора¬жаться собственной художественной сле¬поте.
Советский авангард, который только со¬бираются покупать наши музеи, уже жи¬вет иной жизнью. Не в контексте воспе¬тых Ильей Кабаковым коммунальных квар¬тир, а на стенах престижных европейских галерей и дорогих апартаментов. Ибо сегодня искусство там, на Западе, оконча¬тельно сделалось самой выгодной формой помещения капитала, показателем благо¬состояния и принадлежности к определен¬ному классу.
Мы включаемся в международный ры¬нок; в казну идут проценты от валютных сделок. Мастерские модных художников опустели, круг их почитателей вышел за рамки друзей и знакомых. Но не пора ли задуматься над тем, что результатом всего происходящего у нас на глазах будет изъятие, безвозвратная потеря определенного пласта нашего искусства, еще до конца не понятого и не познанного...
Литературная газета, №49(5219), 7 декабря 1988 г.
Среди нас живет покинутый гений
О жизни и судьбе художника Владимира Яковлева
Михаил Фотиев, профессор.
Когда я вошел в палату, он лежал, скрючившись на своей койке, лицом к стене. Его напряжённая поза выражала тягостное мучительное ожидание. Он ждал меня. При прошлом посещении я обещал взять его на пару недель к себе домой. Он хотел ехать немедленно, а по-
том многократно уточнял время, когда я приду за ним. Я опоздал на четверть часа, и они дорого стоили. Он весь содрогался при мысли, что его могут обмануть, не прийти.
На мой оклик он мгновенно обернулся. Вскочив с койки, стал торопливо, собираться, со-
вать мне альбомчик со своими рисунками. Его суетливые движения выражали страстное же-
лание как можно скорее покинуть этот дом. «Здесь ужасно», — повторял он, как заклинание.
Лишь выйдя на улицу и держа меня за руку, стал заметно успокаиваться. Наконец, произнес:
возьмите такси. И вот мы едем ко мне.
Моего спутника укачало в углу. Видно, ночью плохо спал. Ждал.
Кто же он, этот человек? Владимир Яковлев, художник с мировым именем, олицетворяю-
щий славное поколение, художников-шестидесятников, которые в свое время сумели заложить основы для возрождения отечественного авангарда, уничтоженного в конце 30-х годов тоталитарной системой. Пионер московских так называемых «квартирных» выставок. Подавляющее число вернисажей художников-«неформалов» проходило в столице с его- участием.
Имя Владимира Яковлева давно известно ценителям живописи в Европе и Америке. Бессмысленно пытаться перечислить все его зарубежные выставки — так их много, причем
список непрерывно пополняется, Париж и Нью-Йорк, Лондон и Токио, Вена и Тель-Авив,
Берлин и Братислава, Кельн и Лугано, Дортмунд и Монжерон, Москва и Цюрих. А во Франции, Швейцарии, Германии, в других цивилизованных странах он выставляется регулярно. Яковлев — у частик и самой престижной, пожалуй, всемирной выставки в Биеннале (Венеция). Удостоен первой премии.
А его личная судьба необычайно трагична. Будто, выпала по жребию. Удел созвучный с судьбой Родины, где жестокие трагедии бытия сосуществуют с глубокой духовностью народа, с его верой в светлое буду¬щее.
Родился 15 карта 1934 года в г. Балахна Нижегородской об¬ласти. Хотя род Яковлевых от- личался богатыми культурными традициями, мальчшу было суж¬дено окончить всего четыре класса «дневной» школы.
Шла война. Ребенок рос слабым, болезненным. Плохо учился — не было уче6ников, да к тому же он не видел, что написано на доске: зрение его стре¬мительно ухудшалось. Отсюда — сплошные двойки, особенно по русскому языку. Грамоту в школе так и не оси л и л. Читать- писать научился уже в учреж¬дении другого типа, куда впервые попал в неполные 11 лет. А было это так. Конец войне, в народе подъем, ликование. Все мальчишки чувствуют себя то¬же немножко героями-победи¬телями. Володя достал где-то планки орденов (два ордена и медаль) и стал носить их под пальто. Его «мнимому геройству», а точнее детской шалости была дана тогда несправедли¬во суровая оценка. Все припомнили и приплюсовали: школь¬ные двойки, уклонение от тру¬довой повинности… Наказали «по совокупности» — отправили несостоявшегося героя Вели¬кой Отечественной в психушку, в клинику им. П. П. Кащенко.
Поразительно: сейчас художник с восхищением вспоминает о такого рода учреждениях кон
ца войны. Там было много фронтовиков — контуженых, раненых. Те, кто ходил в атаку,
сбивал фашистские самолеты. Столько выслушано интересных историй о войне, о героизме. Володе хотелось хоть чем-то быть полезным рассказчикам, хоть как-то услужить.
В свою очередь, и взрослые наметанным фронтовым взглядом оценили возможности мальчонки, которому, в отличии от них разрешено было свободно перемещаться не только по «зоне», но и по городу. Его стали посылать в разведку «до¬бывать языка», естественно, в соседнем гастрономе. В благо¬дарность за такую услугу Володю охотно обучали курению, игре в карты. До водки, слава богу, дело не дошло ввиду ее острейшего дефицита. Разведчик надежно и точно исполнял свои обязанности, пока, не пал жертвой обычного доноса од¬ного из пациентов соседней палаты.
В учреждении был большой шум, наказали разведчика по максимуму — сделали болез¬ненный укол с примесью мышь¬яка. Тот потерял сознание, но, придя в себя «своих» не выдал. За все это его тут же пе¬ревели в палату буйных, а по¬скольку было признано, что он уже способен работать, броси¬ли на трудовой фронт. Здесь он в совершенстве освоил функции уборщика мест общест¬венного пользований, натирщи¬ка полов. Над мальчиком в конце концов нависла угроза от¬правки в Желтые Столбы на вечное поселение. Но мать, сжалившись, взяла Володю домой.
В России когда-то была славная, традиция посылать талантливых художников на стажи-
ровку в Европу, в Грецию. Италию, Францию... Царь лично следил, за соблюдением этом
традиции и даже покупая у художников картины, дабы у них были средства на такие путешествия. В советское время одаренные художники-авангардисты, тоже отправлялись на
«стажировку», но по иным «маршрутам». То, что выпало на долю Владимира Яковлева, довольна типично. (Стоит ли говорить, что и короткое пребывание даже здорового человека
в такого рода заведении могло сделать его больным, и тогда-то он уже сидел там как бы
«по закону»).
...По возвращении, из психушки встал вопрос об учебе. Великовозрастный ученик не мог посещать обычную школу. В школе же рабочей молодежи требовали справку с места работа. В издательстве «Искусство» взяли курьером, обещали в будущем перевести на более серьезную должность. Это издательство стало чуть ли не единственной школой живописи для художника. Он увлекся репродукциями, фотографиями живописи… Здесь он впервые стал рисовать, вернее — перерисовывать репродукции, здесь же получил первую в жизни похвалу, о которой помнит по сей день.
Обычно художника спрашивают: где учился, кто твои учителя? Ну где мог учиться Володя,
незрячей, с неполными 6 классами ШРМ?
Так что его талант живописца предстал в самом что ни на есть природном, естественном
виде.
Между тем его житейская драма продолжала углубляться. Сразу же после смерти родите¬лей с оперативностью необыкно¬венной у художника отобрали квартиру, а его самого для вящей убедительности в правоте содеянного вновь отправили по знакомому ему с детства маршруту.
С тех пор нет у него своего угла. «Мне некуда деться», — се¬тует и теперь художник, ну а то, что он до сих пор содержит¬ся в психинтернате, является, я убежден, плодом той самой несправедливости, что тянется от времен памятных нам всем.
Со всей ответственностью, утверждаю: за время общения с Яковлевым, включая те недели, что он жил у меня, я убедился: он вполне здоровый человек. По существу, ничем, не отличается от многих. Вежлив, культурен, совершеийо не пьет и не уважает пьющих. Прекрасно разбирается в живописи, в ее истории. Читает мне великолепные лекции по живописи. Я потом эти лекции пересказывал в вузе, где работаю. Лекции проходили бук-
вально на ура. Все спрашивала: когда это я, научный работник, преподаватель электротехники, успел так поднатореть в живописи?
Я показал как-то Володе работы моего знакомого художника-авангардиста, весьма экспрессивного, яркого, как мне казалось, оригинального. Володя внимательно осмотрел работу и дал краткий анализ: «Напоминает живопись 20-х годов. Белая — прямо из тюбика синяя — прямо из тюбика. Все это очень несовременно, все это было. Работа в цвете плохо решена. Синее с коричневым. Бездушная вещь. Очень дрова напоминает. Занавесочку какую-то повесил, иероглифы выписал. Зачем все это надо рисовать? В картине музы¬ки нет, никаких чувств, кроме пьянства. Тупое пьянство — и больше ничего… А в общем художник талантливый. Мог бы делать хорошие вещи, если бы не пил»
Далее Володя говорил: «В жи¬вописи должна, быть энергия жизни. Она должна дать человеку чувства, которые организуют его жизнь, его труд, зовут к порядку, чистоте. А в цвете ласка должна быть, он должен передавать динамику жизни, а не ее пустоту, давать что-то свежее, истинное, передать мазком дви¬жение... Мне говорят: цветок твой падает. Но ведь жизнь цветка в его падении. Если этого нет, цветок — мертвый. Паде¬ние — это жизнь».
От бесед с Володей я испы¬тываю истинное наслаждение. Свежесть, оригинальность вос¬приятия окружающего мира, не привычная трактовка, событий, необъятность фантазии. Но все это базируется на хорошем зна¬нии истории, искусства, челове¬ка. Весьма любопытны многие его высказывания. Я хожу за ним буквально с карандашом и все записываю, записываю. Как- то я ему сказал: «Володя, по¬едем с тобой во Францию?» «Зачем?» — спросил он. «Там море теплое». — «Я вам здесь французское море сде¬лаю, несите синюю краску Включите радио погромче—эле¬гию Массне передают...» В другой раз: «Талант у меня не от деда. Я сам все придумал». (Михаил Николаевич Яковлев (1880 — 1942), известный русский художник, писал пейзажи, натюрморты, цветы. Ряд его работ находится в Третьяковке}.
О своем творчестве Володя говорил: «У меня все вещи де¬коративны, кроме кошки с птицей. Я плакал, когда смотрел картину Пикассо «Кошка с пти¬цей». Я в своей живописи могу передать все: движение, любовь, крик.
Стараюсь цветом передать крик пшеницы, которую не уб¬рали. Но человеческую мысль передать трудно.
Живопись моя не – абстрактная, не реалистическая, она, — декоративная. Я люблю красоту».
Я ему сказал: Володя! В «Известиях» будет статья о тебе». Он насторожился: «А не посадят? А за абстрактную живопись уже не сажают?».
Неудивительно, что, прожив столько в психушке, немного отстал от жизни.
За время общения с художником не было и даже не предвиделось каких-либо эксцессов.
Я все время, на работе. Он отлично справляется без меня. Готовит себе чай, делает бутерброды. Когда я ухожу, он сам отдает мне сигареты и спички. Так мы соблюдаем про-
тивопожарную безопасность. Володя все еще неважно видят и может нечаянно уронить пепел.
Если Анатолий Зверев, тоже проживавший в свое время меня, в качестве имущества наряду с пустой авоськой, которую он всегда носил на всякий случай, имел список телефонов, то Володя все номера телефонов, более 20, держит в голове и часто ими подьэуется, никогда не ошибаясь.
Слухи о том, что ему нужен постоянный уход, сильно преувеличен». . Ему необходим, уход, обычный для домов пре¬старелых, где есть врач. В хо¬рошей домашней обстановке художник быстро отходит от интернатовских' страхов, к нему постепенно возвращается творческая энергия.
Если удастся изъять его из психушки и устроить, там, где будут обеспечены нормальные человеческие условия, мы сумеем сохранить Яковлева как гениального художника, твор- ческий потенциал, которого еще далеко не исчерпан: он в состоя¬нии принести нашей Родине
дополнительные лавры на ниве живописи. А живопись его воистину прекрасна. Лишенный
визуального контакта с внешним миром, он стал художником-ясновидцем, способным передать скрытый от обычного взгляда ценностный смысл объектов и явлений, их духовную суть. Он может передать нечто неуловимое, не видимое глазом.
Мощное внутреннее зрение, богатое воображение позволили ему сотворить свой уникаль-
ный мир таинственных обр азов. Перед восхищенным зрителем предстает живопись раскованная, энергичная, экспрессивная, полная простоты, духовного богатства,воспарив-
шего над всем суетным, прагматичным, повседневным. Окунаешься в полуфантастический
мир, населенный духовными существами — знаменитыми яковлевским корабликами, рыбами, птицами, цветами, пейзажами, которых автор талантливо расположил на грани реального и волшебного. Но во всех этих образах звучит грустная мелодия одиночества, покинутости, неустроенности. Почти ощущаешь боль я страдания души забытой.
Говорят, Пушкин мыслил стихами… Яковлев мыслит исключительно цветом. Разглядывая веточку цветущей вишни, говорит про себя: кобальт зеленый, охра золотистая… белила...
Кстати, с этой веточки вишни началась «зрячая» живопись ' художника (так он ее сам окрестил) . Ведь он никогда не писал с натуры, но всегда об этом мечтал. С появлением зрения мечта стала сбываться.
С этой веточкой он возился несколько дней: ухажива л за ней, восторгался ее красотой и
все пытался написать ее с натуры. Получилось неплохо, несмотря и,а то, что это был первый зкоперимент. Таким образом, мы имеем все шансы узнать нового Яковлева автора «зрячей» живописи.
8 лет не рисовал — в психдиспансере не было красок, бумаги, ничего не было. Старушхи няни иногда приносили ему карандаши блокнотики… «Как хорошо, что вы все мне даете,
книги по живописи, — говорит он мне теперь.У меня их никогда не было».
С каким интересом он разглядывает эти книги, альбомы, репродукции. Особенно любит реалистическую живопись военной тематики. Детское пристрастие ко всему героическому заметно и поныне. Долго расспрашивал меня: ходил ли я в атаку, был ли пограничником, имею ли боевые награды? Как ему хочется, чтобы у меня все это было...
Еще он страстно желает узнать телефон своего друга академика Юрия Николаевича Работнова (1914 — 1985). Юрий Николаевич — первый, кто признал живопись Яковлева, стал покупать его картины и агитировать других ценителей живописи делать то же самое. Приезжая в Москву, осталнавливался в гостинице «Якорь» и приглашал в гости Володю для просмотра и покупки его работ. Это были, самые счастливые дни в жизни художника. И он не хочет верить, что академика у же нет в живых. На всякий случай позвонил в «Якорь», интересовался, когда академик останавливался там в последний раз… Так же он любил, своих родителей, так же любит сестру. Настоящую друж6у, он ценит очень высоко. Не каждому дано это понять.
А как же вернулось к нему зрение? Не само вернулось — врачи помогли. Так что сказать,
что художник всеми забыт, было бы неправильно. К нему уже протянулись добрые руки, в клинике микрохирургии глаза, руководимом С. Федоровым, художнику сделана операция одного глаза, после чего стал видеть.
«Я наслаждаюсь зрением, — говорит он. — Вот оно, бездонное небо, облака, трава… Сколько здесь красоты»
Теперь нужен следующий шаг — создать художнику свой угол. Квартира для этой цели не подходит. У него нет семьи. Женщины, к его большому огорчению, обошли его вниманием.
Жить одному в квартире ему будет сложно, непривычно. Не решит проблемы и
«передача» художника в чью-нибудь семью, так как над ним всегда будет висеть дамоклов меч, возвращения в психушку в случае какойлибо «неустойки».
Идеальным, по-моему, для него является вариант помещения в хороший пансионат Для ветеранов науки, культуры, искусства. Там у него будет тот самый свой угол, о котором Володя мечтает. «Я буду там писать хорошие картины», — говорит он.
Наша задача, россияне, найти для художника его «творческую мастерскую». Человек, столько сделавший для отечественной, культуры, вполне заслуживает нашего внимания. Общества поистине в долгу перед ним: ведь художник благодаря своей популярности, своему призванию в мире, вполне самоокупаем и не будет обузой никому, государству — в том числе.
Фото автора.
Известия, 05.06.1992 года, № 130
Владимир Яковлев умер в 1998 году.

Просмотров: 3937 Комментариев: 3 Перейти к комментариям
О жизни и судьбе художника Владимира Яковлева
Михаил Фотиев, профессор.
Когда я вошел в палату, он лежал, скрючившись на своей койке, лицом к стене. Его напряжённая поза выражала тягостное мучительное ожидание. Он ждал меня. При прошлом посещении я обещал взять его на пару недель к себе домой. Он хотел ехать немедленно, а по-
том многократно уточнял время, когда я приду за ним. Я опоздал на четверть часа, и они дорого стоили. Он весь содрогался при мысли, что его могут обмануть, не прийти.
На мой оклик он мгновенно обернулся. Вскочив с койки, стал торопливо, собираться, со-
вать мне альбомчик со своими рисунками. Его суетливые движения выражали страстное же-
лание как можно скорее покинуть этот дом. «Здесь ужасно», — повторял он, как заклинание.
Лишь выйдя на улицу и держа меня за руку, стал заметно успокаиваться. Наконец, произнес:
возьмите такси. И вот мы едем ко мне.
Моего спутника укачало в углу. Видно, ночью плохо спал. Ждал.
Кто же он, этот человек? Владимир Яковлев, художник с мировым именем, олицетворяю-
щий славное поколение, художников-шестидесятников, которые в свое время сумели заложить основы для возрождения отечественного авангарда, уничтоженного в конце 30-х годов тоталитарной системой. Пионер московских так называемых «квартирных» выставок. Подавляющее число вернисажей художников-«неформалов» проходило в столице с его- участием.
Имя Владимира Яковлева давно известно ценителям живописи в Европе и Америке. Бессмысленно пытаться перечислить все его зарубежные выставки — так их много, причем
список непрерывно пополняется, Париж и Нью-Йорк, Лондон и Токио, Вена и Тель-Авив,
Берлин и Братислава, Кельн и Лугано, Дортмунд и Монжерон, Москва и Цюрих. А во Франции, Швейцарии, Германии, в других цивилизованных странах он выставляется регулярно. Яковлев — у частик и самой престижной, пожалуй, всемирной выставки в Биеннале (Венеция). Удостоен первой премии.
А его личная судьба необычайно трагична. Будто, выпала по жребию. Удел созвучный с судьбой Родины, где жестокие трагедии бытия сосуществуют с глубокой духовностью народа, с его верой в светлое буду¬щее.
Родился 15 карта 1934 года в г. Балахна Нижегородской об¬ласти. Хотя род Яковлевых от- личался богатыми культурными традициями, мальчшу было суж¬дено окончить всего четыре класса «дневной» школы.
Шла война. Ребенок рос слабым, болезненным. Плохо учился — не было уче6ников, да к тому же он не видел, что написано на доске: зрение его стре¬мительно ухудшалось. Отсюда — сплошные двойки, особенно по русскому языку. Грамоту в школе так и не оси л и л. Читать- писать научился уже в учреж¬дении другого типа, куда впервые попал в неполные 11 лет. А было это так. Конец войне, в народе подъем, ликование. Все мальчишки чувствуют себя то¬же немножко героями-победи¬телями. Володя достал где-то планки орденов (два ордена и медаль) и стал носить их под пальто. Его «мнимому геройству», а точнее детской шалости была дана тогда несправедли¬во суровая оценка. Все припомнили и приплюсовали: школь¬ные двойки, уклонение от тру¬довой повинности… Наказали «по совокупности» — отправили несостоявшегося героя Вели¬кой Отечественной в психушку, в клинику им. П. П. Кащенко.
Поразительно: сейчас художник с восхищением вспоминает о такого рода учреждениях кон
ца войны. Там было много фронтовиков — контуженых, раненых. Те, кто ходил в атаку,
сбивал фашистские самолеты. Столько выслушано интересных историй о войне, о героизме. Володе хотелось хоть чем-то быть полезным рассказчикам, хоть как-то услужить.
В свою очередь, и взрослые наметанным фронтовым взглядом оценили возможности мальчонки, которому, в отличии от них разрешено было свободно перемещаться не только по «зоне», но и по городу. Его стали посылать в разведку «до¬бывать языка», естественно, в соседнем гастрономе. В благо¬дарность за такую услугу Володю охотно обучали курению, игре в карты. До водки, слава богу, дело не дошло ввиду ее острейшего дефицита. Разведчик надежно и точно исполнял свои обязанности, пока, не пал жертвой обычного доноса од¬ного из пациентов соседней палаты.
В учреждении был большой шум, наказали разведчика по максимуму — сделали болез¬ненный укол с примесью мышь¬яка. Тот потерял сознание, но, придя в себя «своих» не выдал. За все это его тут же пе¬ревели в палату буйных, а по¬скольку было признано, что он уже способен работать, броси¬ли на трудовой фронт. Здесь он в совершенстве освоил функции уборщика мест общест¬венного пользований, натирщи¬ка полов. Над мальчиком в конце концов нависла угроза от¬правки в Желтые Столбы на вечное поселение. Но мать, сжалившись, взяла Володю домой.
В России когда-то была славная, традиция посылать талантливых художников на стажи-
ровку в Европу, в Грецию. Италию, Францию... Царь лично следил, за соблюдением этом
традиции и даже покупая у художников картины, дабы у них были средства на такие путешествия. В советское время одаренные художники-авангардисты, тоже отправлялись на
«стажировку», но по иным «маршрутам». То, что выпало на долю Владимира Яковлева, довольна типично. (Стоит ли говорить, что и короткое пребывание даже здорового человека
в такого рода заведении могло сделать его больным, и тогда-то он уже сидел там как бы
«по закону»).
...По возвращении, из психушки встал вопрос об учебе. Великовозрастный ученик не мог посещать обычную школу. В школе же рабочей молодежи требовали справку с места работа. В издательстве «Искусство» взяли курьером, обещали в будущем перевести на более серьезную должность. Это издательство стало чуть ли не единственной школой живописи для художника. Он увлекся репродукциями, фотографиями живописи… Здесь он впервые стал рисовать, вернее — перерисовывать репродукции, здесь же получил первую в жизни похвалу, о которой помнит по сей день.
Обычно художника спрашивают: где учился, кто твои учителя? Ну где мог учиться Володя,
незрячей, с неполными 6 классами ШРМ?
Так что его талант живописца предстал в самом что ни на есть природном, естественном
виде.
Между тем его житейская драма продолжала углубляться. Сразу же после смерти родите¬лей с оперативностью необыкно¬венной у художника отобрали квартиру, а его самого для вящей убедительности в правоте содеянного вновь отправили по знакомому ему с детства маршруту.
С тех пор нет у него своего угла. «Мне некуда деться», — се¬тует и теперь художник, ну а то, что он до сих пор содержит¬ся в психинтернате, является, я убежден, плодом той самой несправедливости, что тянется от времен памятных нам всем.
Со всей ответственностью, утверждаю: за время общения с Яковлевым, включая те недели, что он жил у меня, я убедился: он вполне здоровый человек. По существу, ничем, не отличается от многих. Вежлив, культурен, совершеийо не пьет и не уважает пьющих. Прекрасно разбирается в живописи, в ее истории. Читает мне великолепные лекции по живописи. Я потом эти лекции пересказывал в вузе, где работаю. Лекции проходили бук-
вально на ура. Все спрашивала: когда это я, научный работник, преподаватель электротехники, успел так поднатореть в живописи?
Я показал как-то Володе работы моего знакомого художника-авангардиста, весьма экспрессивного, яркого, как мне казалось, оригинального. Володя внимательно осмотрел работу и дал краткий анализ: «Напоминает живопись 20-х годов. Белая — прямо из тюбика синяя — прямо из тюбика. Все это очень несовременно, все это было. Работа в цвете плохо решена. Синее с коричневым. Бездушная вещь. Очень дрова напоминает. Занавесочку какую-то повесил, иероглифы выписал. Зачем все это надо рисовать? В картине музы¬ки нет, никаких чувств, кроме пьянства. Тупое пьянство — и больше ничего… А в общем художник талантливый. Мог бы делать хорошие вещи, если бы не пил»
Далее Володя говорил: «В жи¬вописи должна, быть энергия жизни. Она должна дать человеку чувства, которые организуют его жизнь, его труд, зовут к порядку, чистоте. А в цвете ласка должна быть, он должен передавать динамику жизни, а не ее пустоту, давать что-то свежее, истинное, передать мазком дви¬жение... Мне говорят: цветок твой падает. Но ведь жизнь цветка в его падении. Если этого нет, цветок — мертвый. Паде¬ние — это жизнь».
От бесед с Володей я испы¬тываю истинное наслаждение. Свежесть, оригинальность вос¬приятия окружающего мира, не привычная трактовка, событий, необъятность фантазии. Но все это базируется на хорошем зна¬нии истории, искусства, челове¬ка. Весьма любопытны многие его высказывания. Я хожу за ним буквально с карандашом и все записываю, записываю. Как- то я ему сказал: «Володя, по¬едем с тобой во Францию?» «Зачем?» — спросил он. «Там море теплое». — «Я вам здесь французское море сде¬лаю, несите синюю краску Включите радио погромче—эле¬гию Массне передают...» В другой раз: «Талант у меня не от деда. Я сам все придумал». (Михаил Николаевич Яковлев (1880 — 1942), известный русский художник, писал пейзажи, натюрморты, цветы. Ряд его работ находится в Третьяковке}.
О своем творчестве Володя говорил: «У меня все вещи де¬коративны, кроме кошки с птицей. Я плакал, когда смотрел картину Пикассо «Кошка с пти¬цей». Я в своей живописи могу передать все: движение, любовь, крик.
Стараюсь цветом передать крик пшеницы, которую не уб¬рали. Но человеческую мысль передать трудно.
Живопись моя не – абстрактная, не реалистическая, она, — декоративная. Я люблю красоту».
Я ему сказал: Володя! В «Известиях» будет статья о тебе». Он насторожился: «А не посадят? А за абстрактную живопись уже не сажают?».
Неудивительно, что, прожив столько в психушке, немного отстал от жизни.
За время общения с художником не было и даже не предвиделось каких-либо эксцессов.
Я все время, на работе. Он отлично справляется без меня. Готовит себе чай, делает бутерброды. Когда я ухожу, он сам отдает мне сигареты и спички. Так мы соблюдаем про-
тивопожарную безопасность. Володя все еще неважно видят и может нечаянно уронить пепел.
Если Анатолий Зверев, тоже проживавший в свое время меня, в качестве имущества наряду с пустой авоськой, которую он всегда носил на всякий случай, имел список телефонов, то Володя все номера телефонов, более 20, держит в голове и часто ими подьэуется, никогда не ошибаясь.
Слухи о том, что ему нужен постоянный уход, сильно преувеличен». . Ему необходим, уход, обычный для домов пре¬старелых, где есть врач. В хо¬рошей домашней обстановке художник быстро отходит от интернатовских' страхов, к нему постепенно возвращается творческая энергия.
Если удастся изъять его из психушки и устроить, там, где будут обеспечены нормальные человеческие условия, мы сумеем сохранить Яковлева как гениального художника, твор- ческий потенциал, которого еще далеко не исчерпан: он в состоя¬нии принести нашей Родине
дополнительные лавры на ниве живописи. А живопись его воистину прекрасна. Лишенный
визуального контакта с внешним миром, он стал художником-ясновидцем, способным передать скрытый от обычного взгляда ценностный смысл объектов и явлений, их духовную суть. Он может передать нечто неуловимое, не видимое глазом.
Мощное внутреннее зрение, богатое воображение позволили ему сотворить свой уникаль-
ный мир таинственных обр азов. Перед восхищенным зрителем предстает живопись раскованная, энергичная, экспрессивная, полная простоты, духовного богатства,воспарив-
шего над всем суетным, прагматичным, повседневным. Окунаешься в полуфантастический
мир, населенный духовными существами — знаменитыми яковлевским корабликами, рыбами, птицами, цветами, пейзажами, которых автор талантливо расположил на грани реального и волшебного. Но во всех этих образах звучит грустная мелодия одиночества, покинутости, неустроенности. Почти ощущаешь боль я страдания души забытой.
Говорят, Пушкин мыслил стихами… Яковлев мыслит исключительно цветом. Разглядывая веточку цветущей вишни, говорит про себя: кобальт зеленый, охра золотистая… белила...
Кстати, с этой веточки вишни началась «зрячая» живопись ' художника (так он ее сам окрестил) . Ведь он никогда не писал с натуры, но всегда об этом мечтал. С появлением зрения мечта стала сбываться.
С этой веточкой он возился несколько дней: ухажива л за ней, восторгался ее красотой и
все пытался написать ее с натуры. Получилось неплохо, несмотря и,а то, что это был первый зкоперимент. Таким образом, мы имеем все шансы узнать нового Яковлева автора «зрячей» живописи.
8 лет не рисовал — в психдиспансере не было красок, бумаги, ничего не было. Старушхи няни иногда приносили ему карандаши блокнотики… «Как хорошо, что вы все мне даете,
книги по живописи, — говорит он мне теперь.У меня их никогда не было».
С каким интересом он разглядывает эти книги, альбомы, репродукции. Особенно любит реалистическую живопись военной тематики. Детское пристрастие ко всему героическому заметно и поныне. Долго расспрашивал меня: ходил ли я в атаку, был ли пограничником, имею ли боевые награды? Как ему хочется, чтобы у меня все это было...
Еще он страстно желает узнать телефон своего друга академика Юрия Николаевича Работнова (1914 — 1985). Юрий Николаевич — первый, кто признал живопись Яковлева, стал покупать его картины и агитировать других ценителей живописи делать то же самое. Приезжая в Москву, осталнавливался в гостинице «Якорь» и приглашал в гости Володю для просмотра и покупки его работ. Это были, самые счастливые дни в жизни художника. И он не хочет верить, что академика у же нет в живых. На всякий случай позвонил в «Якорь», интересовался, когда академик останавливался там в последний раз… Так же он любил, своих родителей, так же любит сестру. Настоящую друж6у, он ценит очень высоко. Не каждому дано это понять.
А как же вернулось к нему зрение? Не само вернулось — врачи помогли. Так что сказать,
что художник всеми забыт, было бы неправильно. К нему уже протянулись добрые руки, в клинике микрохирургии глаза, руководимом С. Федоровым, художнику сделана операция одного глаза, после чего стал видеть.
«Я наслаждаюсь зрением, — говорит он. — Вот оно, бездонное небо, облака, трава… Сколько здесь красоты»
Теперь нужен следующий шаг — создать художнику свой угол. Квартира для этой цели не подходит. У него нет семьи. Женщины, к его большому огорчению, обошли его вниманием.
Жить одному в квартире ему будет сложно, непривычно. Не решит проблемы и
«передача» художника в чью-нибудь семью, так как над ним всегда будет висеть дамоклов меч, возвращения в психушку в случае какойлибо «неустойки».
Идеальным, по-моему, для него является вариант помещения в хороший пансионат Для ветеранов науки, культуры, искусства. Там у него будет тот самый свой угол, о котором Володя мечтает. «Я буду там писать хорошие картины», — говорит он.
Наша задача, россияне, найти для художника его «творческую мастерскую». Человек, столько сделавший для отечественной, культуры, вполне заслуживает нашего внимания. Общества поистине в долгу перед ним: ведь художник благодаря своей популярности, своему призванию в мире, вполне самоокупаем и не будет обузой никому, государству — в том числе.
Фото автора.
Известия, 05.06.1992 года, № 130
Владимир Яковлев умер в 1998 году.

Кто сильней на этой картине?
Евг. Евтушенко
У меня на стене переделкинской дачи висит картина. Кто бы ни при¬ходил ко мне, картина гипнотически притягивает, первого взгляда, меться, нравится она или не нравится. Иногда вызывает восторги, иногда ошара¬шивает, даже пугает.
Картина называется «День рождения с Рембрандтом». В темно-алых размывах-то ли кро-ви, то ли взвихренных пожаров - два художника, родившихся в один лень, 15 июля, но один из них, Рембрандт, — в 1606 году в Лейдене, другой, автор картины Олег Целков, — в 1934 году в Москве того и у другого в руках бокалы, наполненные то ли красным вином, то ли пламенем истории. Русский наклонил¬ся к голландцу и что-то заговорщицки, шепчет ему на ухо, а может быть, что-то спрашивает, да не просто, а поддевая, подкалывая. Озорная, но в то же время не очень-то веселая дьявольщинка про¬сверкивает в глазах русского, наделенно¬го страшным превосходством знания всего того, что случилось на планете после смерти Ремб-рандта. Жутковатая сила, жи¬вучесть есть в этом русском художнике, прошедшем школу ма-газинных очередей, коммунальных кухонь, битком набитых трамваев, школу страха перёд ночным звонком в дверь, школу хрущевских кри¬ков на художников, школу разгрома выстав-ки на пустыре бульдозерами при Брежневе, школу невыпускания за грани¬цу, невыставления и непокупания картин, школу бесчисленных исключений, запре¬щений, угроз.
Рембрандт на целковской картине уж не тот, с колен которого так обворожи¬тельно улыба-лась Саския, по его гениаль¬ной воле раз и навсегда повернувшаяся лицом ко всем будущим поколениям, но Рембрандт умирающий, который справля¬ет свой последний день рождения вместе с русским странным художником, который по воландовскому мановению перемес-тился во времени. Это Рембрандт, уже не добивающийся славы, а добившийся ее, но и пре-зревший. Это Рембрандт, выдер¬жавший и старость, и безденежье с не меньшим достоинст-вом, чем молодость и деньги. Это Рембрандт, простивший жизни все, что она отобрала у не-го, за все, что она дала ему. Это Рембрандт, не опустив¬шийся до хитрости, но и не отказав-шийся от крестьянского колабрюньоновского лу¬кавства.
Много раз задавал сам себе вопрос: кто сильней на этой картине? Спрашивал и гостей. Лучший ответ дал, пожалуй, Габриэль Гарсиа Маркес: «Оба сильнее». Неплохо сказал и один грузинский гость, пожелавший остаться неизвестным: «Силь¬ней тот, кто бокал держит ни-же». На кар¬тине ниже бокал держит старший. Но са¬мое горькое в том, что почти никто из моих гостей (за исключением некоторых Иностранцев и советских специалистов по живопи-си) не узнал, чьей кисти эта кар¬тина, а когда я называл фамилию Целкова, переспрашивали.
Целков был одним из двух-трех самых моих близких друзей. К нему я мог при¬ехать без звонка в любое время дня и но¬чи — и один, и вдвоем, и даже с большой компанией. Однаж-ды, выйдя из его квартиры ночью, мы купались при лунном свете в канале, как будто проща-лись на¬всегда и с нашей молодостью, и друг с другом: Белла Ахмадулина, Василий Аксе¬нов, Булат Окуджава, японская девушка Юка, Олег и я. Как будто с заранее предугаданной непо-правимостью я в своей жизни разошелся с некоторыми, но не с Олегом. У него был великий дар хранения дружбы. Секрет этого дара, ви¬димо, в терпимости к чужим, непохожим на соб-ственный характер мнениям. В этом смысле Целков в жизни больше похож на Рембрандта с той картины, чем на нари¬сованного Целковым Целкова. Он никогда не поучал, не лез в со-ветчики, но и сам не выпрашивал советов. У него было ред¬чайшее качество — умение при-нять чу¬жую боль и умение исповедаться. Он был способен помочь в беде, но и не позавидо-вать в счастье. Всю жизнь борясь с безденежьем, он не считал в воображе¬нии чужих денег и без своих умел, обхо¬диться почти незаметно и даже элегантно.
Я прошел вместе с ним многие тысячи километров и по Вилюю, и по Алдану на моторных лодках. Он был смешным в сво¬их городских ужасах и восторгах перед сибирской природой, но всегда оставался трогательнейше преданным, а было нуж¬но — и бесстрашным товари-щем. Первые года два, когда он так неожиданно для всех и для себя уехал, несколько раз я ловил свою автомашину на том, что она как бы сама инстинктивно норовила по¬ехать к нему ночью в Орехово-Борисово, пока я не спохватывался, что Целкова там уже нет и не будет. Уже целых одинна¬дцать лет он не ходил по московским ули¬цам, которые так любил всей своей бро¬дяжьей душой полуночника. Его не успели здесь признать, но забыть успели. Его помнят только родственника, личные дру¬зья, некоторые профессиональные художники и коллекционеры. Никогда не зани¬мавшийся политикой, он живет во Фран¬ции с паспортом «политического бежен¬ца», что, впрочем, позволяет ему свободно ездить по всему белому свету и выстав¬ляться, выставляться, выставляться. Везде, за исключением Родины.
В прошлом году итальянское издатель¬ство «Фаббри» выпустило цветную монографию-гигант, посвященную Олегу Целкову, в серии «Выдающиеся мастера XX века». Лишь немно-гие живые художники удостоились чести быть включенными в эту серию. Так что же прои-зошло? Поче¬му наша страна позволила себе преступную «роскошь» уворовать у самой себя и Целкова, и многих других художников — по приблизительным подсчетам около двухсот? Это произошло не в сталинское время, а уже после двадцатого съезда. Все мы несем за это ответственность. Конечно, именно сталинское время было колыбелью беспрецедентного в истории национального самоворовства. У стольких наших поколений был украден великий русский авангард — Кандинский, Малевич, Филонов, Гончарова, Ларионов, Татлин, Тыш-лер, Лентулов, Родченко, Мельников!
Железный занавес между двумя систе¬мами стал стеной между двумя культура¬ми. Ахмато-ва, по собственному призна¬нию, лишь случайно, с огромным опозда¬нием узнала, что любив-ший ее в Париже безвестный итальянец Модильяни по¬смертно стал всемирной известнос-тью. В 1962 году Шагал, которого я посетил в его доме во Франции, сказал, что он хочет умереть на Родине, подарив, ей все принадлежащие ему картины, — лишь бы ему дали скро-мный домик в родном Ви¬тебске Шагал передал мне свою моно¬графию с таким автографом для Хруще¬ва: «Дорогому Никите Сергеевичу Хруще¬ву с любовью к нему и к нашей Родине». (Первоначально на моих глазах Шагал сделал описку — вместо «к нему» стояло «к небу»). Помощник Хрущева В.С. Ле¬бедев, никогда не слышавший фамилии Шагала, не захотел пере-дать эту книгу Хру¬щеву. «Евреи, да еще и летают...» — раз¬драженно прокомментировал он репродук¬цию, где двое влюбленных целовались, па¬ря под потолком. Лебедев, который — на-до отдать ему должное — ранее помог напечатать и «Наследников Сталина», и «Один день Ивана Денисовича», был раз¬дражен и даже напуган не случайно. Ата¬ки на художников со стороны Хрущева и окружения перешли в атаки на писателей, на свободомыслящую интел-лигенцию во¬обще. Но. впрочем, и раньше рамки сво¬боды для живописи раздвигались гораз-до медленней, чем для литературы. Ничто гак медленно не меняется, как привычка к визу-альным стереотипам. Даже в самые «оттепельные» времена книгу англичанки Камиллы Грей о русском авангарде конфис¬ковывали наши несгибаемые таможенники. Нравственная кас-трация породила кастра¬цию художественную, даже стилевую. Не¬обычная художественная форма уже вос¬принималась как антисоветское содержа¬ние.
Но все-таки железный занавес проржа¬вел, и сквозь его дыры с острыми, боль¬но ранящими краями просачивались люди, книги — и в ту, и в другую сторону. К со¬жалению, в ту сторону уходили оригиналь¬ные картины, написанные здесь, а в эту ходили лишь репродукции Саль-вадора Дали, Макса Эрнста, Хоана Миро, мно¬гих других. Когда я недавно был на аук¬ционе Сотбис и видел навсегда уплываю¬щие за границу холсты Родченко, Древина, Удальцовой и талантливые работы на¬ших молодых, еще живых художников, иг¬норируемых государствен-ными закупочны¬ми комиссиями на Родине, то я слушал звучавшие под удары молотка бас-нослов¬ные цифры, как предупреждающий набат. С одной стороны, хорошо, что русскую жи-вопись увидят в других странах, что молодые художники благодаря этому деньгопаду с ка-питалистического неба смогут дальше спокойно работать, не суе¬тясь ради поденщины. Но все-таки кошки скребли у меня на сердце. Почему мы са¬ми не могли у себя купить эти кар-тины? Все это опять пахнет национальным самоворовством. Но вернемся к Целкову.
По его собственным признаниям, в ран¬нем детстве его никто постоянно не учил живопи-си. Однажды в пионерском лагере художник Михаил Архипов по¬тряс Олега красочными рассказами о мире художников, о живописи, о ее святом предназначении. Впечатлительный подросток в течение одной бессонной но¬чи вдруг осознал, что он тоже худож¬ник. Олега при-няли в Суриковскую сред¬нюю художественную школу. Его мама вспоминает: «В школе при поступле¬нии ему дали стипендию — 20 рублей. Для пятнадцатилетнего мальчика и скром¬ного бюджета семьи средних служащих это было даже очень много. Но за пер¬вые две карти-ны, представленные на зим¬ней сессии, Олег был лишен этой стипен¬дии. На одной опальной картине был изо¬бражен концлагерь. Из-за колючей про¬волоки смотрели безнадежные, приу-чен¬ные к повиновению лица. Картину обви¬нили в пессимизме, в отступлении от социалисти-ческого реализма, в слишком трагическом изображении лагерной жиз¬ни, ибо в глазах людей не светилась на¬дежда на скорое приближение советских войск. Вторая — композиция: оди-нокий солдат играет на гитаре на малень¬кой пристани туманным, мглистым ут¬ром. Директор вызвал отца и с глазу на глаз допрашивал: почему у его сына могли возникнуть упадниче-ские настрое¬ния, с кем он дружит, нет ли у него в друзьях старшего художника, который на него дурно влияет? Отец удивился: «По¬чему?» «А видите — солнца нет! Облака, сырость, серость...» «Это было первое ЧП в моей жизни, — говорил Олег, — но тем не менее это было мое крещение, с этого случая начался я как художник».
В такой обстановке рос Олег Целков и его ровесники — юные художники. Когда Олег за-кончил школу, то на просмотре работ школьников руководителями суриковского института один из них топал но¬гами у целковских картин и кричал: «Этой кончаловщине у меня не бы-вать!» Олег все-таки решил поступать в институт, и его, разумеется, провалили. На некото-рых ранних картинах когда-то стояли жирные двойки мелом. Целкова неожиданно поддер-жал столп тогдашней официальной жи¬вописи Б. Иогансон. Сохранилось его письмо, направ-ленное в Минский теат¬ральный институт: «Рекомендую Олега Целкова как прекрасный ма-териал для будущего художника... Он является превос¬ходным живописцем, и уверен, что оп-рав¬дает возложенные на него надежды». Иогансон в данном случае проявил последователь-ность. Когда Целкова исключили в Минске (за формализм), через год он помог ему посту-пить в Академию худо¬жеств имени Репина в Ленинграде. Однако в академии Олег устроил выставку своих первокурсных работ, и студенты-китайцы написали коллективный протест против этой выставки, как против «разлагающе¬го буржуазного влияния». Где они теперь, эти китайские художники? Не погибли ли они сами, возвративщись в Китай, где, может быть, тоже показались «слишком буржуазными» озверело бушевавшей в своем младенческо-пала-ческом неведении толпе хунвэйбинов?
Целкова исключили из академии. Его выручил замечательный режиссер и художник Ни-колай Акимов, взявший Олега на свой курс в театральный институт. Именно тогда, в 1957 году, Слуцкий, с ко¬торым мы вместе приехали на поэтические совместные чтения в Ленин-град, мне представил моего будущего близкого дру¬га слегка шутливо, но с долей серьезно¬сти: «Олег Целков — возможно, будущий гений...» Стройный, красивый, темногла¬зый юно-ша с вьющимися волосами стоял, с небрежной независимостью опершись плечом о косяк двери, в модной тогда для литературных посиделок квартире ленин¬градского писателя Ки-рилла Косцинского. В позе Целкова было что-то от Долохова, готового шагнуть к подокон-нику. Но в отличие от Долохова в Целкове никогда не было издевательской насмешливости над другими, а свойственное всем настоящим людям искусства детское любо¬пытство к лю-дям, к жизни. Мы подружи¬лись с ним с первого взгляда.
До встречи с Олегом я был поклонни¬ком Глазунова. В 1957 году в ЦДРИ со¬стоялась сен-сационная выставка работ этого никому доселе неизвестного ленин¬градского сироты, жена-того на внучке Бенуа, изгоя академии, по слухам, спавшего в Москве в ванне вдовы Яхон-това. После бесконечных Сталиных, после могу¬чих колхозниц с не менее могучими сно¬пами в питекантропски мощных ручищах — огромные глаза блокадных детей, мучи¬тельное лицо Достоевского, трагический облик Блока среди свиных рыл в ресто¬ране, современные юноша и девушка, про¬сыпающиеся, друг с другом в городе, похожем на гетто, где над железной ре-шет¬чатой, спинкой их кровати дымятся трубы чего-то жестокого, всепожирающего. Однаж-ды зимней ночью мы вместе с Глазу¬новым выносили его картины, спрятанные в общежитии МГУ, и просовывали их сквозь прутья массивной чугунной ограды с такими же чугунными гербами СССР грузили эти картины в мой облупленный «Москвич», и струи вьюги били в за¬стекленное лицо Ксюши Некрасовой. Мог ли я тогда представить, что попираемый и опле-вываемый художник Глазунов вскоре станет неофициальным официальным ху¬дожником МИДа и в высокомерно-уничи¬жительной манере будет говорить о рус¬ском многострадаль-ном авангарде, как это недавно прозвучало по телевидению.
Целкова начали, поносить со школь¬ной скамьи. А уже в 1957 году за¬грохотали не только легкие, но и тя¬желые — академические — орудия. Так, например, академик Юон в своей ста¬тье, перечисляя отступников от социа¬листического реализма, назвал нынешнего председате-ля правления Союза художников СССР А. Васнецова, Ю. Васильева К. Мордовина, Э. Неиз-вестного, О. Целкова. На пленуме правления Союза художни¬ков было обронено и такое суж-дение: «Очень плохой фальшивкой под Сезанна являются натюрморты О. Целкова» («Совет-ская культура», 4 июня 1957 го¬да). Заодно от Целкова открестился и его бывший «крестный отец» — Иогансон. Но почти одновременно картинам молодо¬го художника была дана и про-тивополож¬ная оценка человеком, который был дру¬гом Пикассо и вообще кое-что соображал в искусстве. Этим человеком был Пабло Неруда, увидевший всего-навсего два цел¬ковских натюрморта на молодежной выс¬тавке в Москве. Он прислал Олегу пись¬мо, где были такие слова: «На вашем художническом пути вы выглядите как правдивый реалист, у которого есть своя экспрессия и поэзия. Браво!» В Целкова сразу поверил революционный ту¬рецкий поэт Назым Хикмет и предло¬жил ему работу по оформлению сво¬его спектакля «Дамоклов меч» в Теат¬ре сатиры. Думаю, что в работах Целко¬ва Хикмет видел отблески того великого авангарда, который ему посчастливилось увидеть в двадцатые годы в Москве Мая¬ковского и Мейерхольда, На эти отблески к Целкову тянуло и Кирсанова, и Лилю Брик, и Катаняна. Не-задолго до своей кончины целковскую квартиру посетила Анна Ахматова, не слишком бало-вавшая живописцев своими посещениями.
Целкова приняли в Союз художников, в театральную секцию. Но его работы никакие офи-циальные организаторы не покупали. Если бы не постоянная помощь родителей, несмотря ни на что веривших в талант сына, Олег не выдержал бы... Но все-таки появились и первые покупате¬ли. Это были тогда совсем молодые акте¬ры М. Козаков, А. Гурченко, нищий в то время минский художник Борис Заборов, ныне живущий в Париже в одном доме с Целко-вым, другой, тоже нищий москов¬ский художник Юрий Соболев, геолог Анатолий Гаврилов, коллекционер-энтузиаст Евгений Нутович, несмотря на пустые карманы, сумевший собрать целую анто¬логию русской современной живописи, еще один художник, Арнольд Остроумов, журналист Леонид Шинкарев, физик Рубен Сейсян. Переломным для «покупательной репу-тации» Олега был момент, когда несколько его холстов приобрел один из знаменитейших коллекционеров русского, авангарда — Костаки. Первой крупной работой Целкова, продан-ной за рубеж, был «Групповой портрет с арбузом», опи¬санный мной в поэме «Голубь в Сан¬тьяго». «Там с хищными огромными ножами, всей своей сталью жажду¬щими крови пока еще арбуза, а не жертвы, тринадцать морд конвейер¬ных, безликих со щелками свиными вме¬сто глаз, как мафия, позируя, застыли над первой алой раной, из которой растерян¬ные семечки взвились». Эту картину при¬обрел приехавший тогда в СССР Артур Миллер, впоследствии самым высоким об¬разом написавший о Целкове, Я был сви¬детелем того, как Сикейрос и Гут-тузо, два «объевшихся красками всезнайки», жадно и деловито спросили, чем написа¬ны его картины. Олег спокойно перевер¬нул холсты, где на обратной стороне был записан состав красок и лаков. Два ста¬рых волка живописи прилежно все пе¬реписали, как мальчики. Это было выс¬шим профессиональным признанием.
От натюрмортов, в которых действительно было некоторое влияние Сезанна, Целков мед-ленно и могуче вышел к серии индивидуальных и групповых портретов конвейерно-робото-образных особей, порожденных веком расщеплен¬ного атома и электроники, веком Дахау, Гу-лага, Хиросимы. Эти особи страшноваты, но тем не менее им не чуж¬ды сентиментальные, вполне человеческие порывы, и их автоматизированная психо¬логия колеблется где-то на гра-ни между фашизмом и детско-дикарской наивно¬стью. Тип этих особей интернационален, ибо их можно встретить и в Нью-Йорке, и в Люберцах. Серия получилась внуши¬тельная, веду-щая свою родословную в ка¬кой-то степени от «Женщины с коромыс¬лом» Малевича, от неко-торых, образов Леже. Но генеалогическое древо этих особей росло из реальности, и вот это-го-то реализма и испугались «борцы за реа¬лизм». На самом деле эти «борцы за реа¬лизм» бы-ли абстракционистами, ибо на своих угодливых картинах рисовали несуществующую, абст-рактную советскую жизнь. Эти «борцы за реализм» травили жившего в лианозовском бараке художни¬ка Оскара Рабина, со страшной реалисти¬ческой простотой описавшего барачную жуть. Когда «искусствоведы» с повяз¬ками дружинников моторизованно ата¬ковали знамени-тую выставку на пусты¬ре, Рабин лишь в последнюю секунду успел вскочить на нож идущего на него бульдозера стал балансировать на острие ножа со своей спасенной им карти¬ной. Так и жили многие наши художники — стоя на острие ножа со своими карти¬нами.
Художник Юрий Васильев во время войны служил в летных частях, был сбит, уцелел чу-дом, вступил в партию. После войны он сначала занимался, как многие студенты, слащавым кондитерским реализ¬мом. Но честь ему и слава за то, что он одним из первых русских совет-ских ху¬дожников вернулся к забытым, попранным традициям великого авангарда. Васильев перешел к реализму фантазий, видений, создав и атомную Леду, любовно ласкаю¬щую реак-тивный самолет, и Клевету — чудовищную металлическую бабищу, перемалывающую и по-жирающую людей. Его, изобличителя клеветы, немедленно самого обвинили в клевете. К не-му явились чле¬ны партбюро МОСХа, чтобы идеологиче¬ски «проверить» его картины. Юрий Ва¬сильев, как восставший с печи Илья Муро¬мец, встал в дверях вместе со своими ма¬лыми детьми и женой, держа в руках за¬ряженный охотничий карабин, и сказал, что если они осме-лятся незвано пере¬ступить его порог, он убьет и своих де¬тей, и жену, и себя. Вот что скрыва-лось за счастливой улыбкой Юрия Васильева, когда я видел его фотографию в газетах на от-крытии выставки в Японии.
Запихнутый в психушку Михаил Шемя¬кин сделал там потрясающие реалистиче¬ские на-броски карандашом с натуры, а его самого за это обвинили в «искажении советских психле-чебниц», в психопатстве. Вот что скрывается за озабоченным ли¬цом Шемякина, когда сейчас в качестве председателя комитета по спасению со¬ветских военнопленных-афганцев он борет-ся в Нью-Йорке за человеческую жизнь. Скульптора Эрнста Неизвестного, разведчика, ко-мандира взвода, посмертно (считали, что он убит) награжденного за подвиги, человека, у ко-торого вся спина изрыта осколками» оскорбил глава госу¬дарства, крича ему: «Забирайте ваш пас¬порт и убирайтесь вон!» Предугадывал ли глава государства, что именно этот скульптор, оценив освобождение и реабилитацию стольких невинных людей выше личной обиды, по-ставит ему памятник на могиле? Э. Неизвестного под горячую руку почему-то называли аб-стракционистом. После зва¬ного обеда для интеллигенции в Доме приемов топтуны, кряхтя, выне¬сли его скульптуры и расставили на столе правительства, еще в жир¬ных пятнах от шаш-лыков. Из-за скульпту¬ры, изображавшей лагерного мальчика с мышкой в руках, глядело за-сушенное инквизиторское лицо Суслова. Жертва в бронзе и идеологический надзиратель смотрелись как единый архитектурный ан¬самбль. Какой тут к черту абстракцио¬низм! Инсти-нктивный страх невежества на самом деле был направлен против реалистического портрети-рования эпохи. Кошка знала, чье мясо она съела, и хоте¬ла, чтобы на ее портретах было толь-ко невинное молочко на усиках, а не кровь. Но почему же заодно преследовали и абстракци-онизм — ведь, казалось бы, это самый политически безопасный стиль? Абстракционизма бо-ялись потому, что в буйных набрызгах красок мерещился спря¬танный, как в ловком фокусе иллюзиони¬ста, уничижительный портрет.
Агрессивное непонимание есть самопро¬вокация страха. Невежество не хочет признать, что оно чего-то не понимает. Не¬вежество инстинктивно ненавидит объект своего непонима-ния, создает из него об¬раз врага. В поле агрессивного непонима¬ния оказался и Олег Целков. Он сам ни¬когда не был агрессивным, никогда не был охочим до таких рекламных сканда-лов, когда остреньким политическим соу¬сом пытаются сделать более аппетитной позавче-рашнюю заветренную котлету, в которой мясо, может быть и ночевало, но даже не помяв по-душки. Олег всегда любил свою Родину, ее искусство, не принимая лицо бюрократии за ли-цо Родины. Он был слишком занят самосовершенствованием, чтобы звонить иностран¬ным корреспондентам и оповещать их за¬годя о том, когда его будут очередной раз «подвергать преследованиям». Целков не подпадал ни под один стереотип, не принадлежал ни к какой группе, не участ¬вовал в политических акциях, и тем не ме¬нее его все уважали, с его мнением считались. Возможно, кому-то он казался даже тайным лидером всех подпольных художни-ков. Логика была уголовная: «Раз все уважают, значит, пахан». А уважать было за что. Цел-ков — человек на редкость доб¬рожелательный и широкий во вкусах. Од¬нажды целый вечер он мне восхищённо го¬ворил о подвиге передвижников и сказал, что перовская «Тройка», где крестьянские дети везут на санках обледенелую бочку, — одна из его любимых картин. Я ни от одного художника не слышал столько доб¬рого о других художниках. У Целкова есть одна редкостная черта — уверенность в себе, не переходящая в зазнайство. Это уверенность ма-стерового, знающего свое дело. На зависть и ненависть у настоя¬щих мастеров просто-напро-сто нет вре¬мени.
Целков, любящий литературу, наиме¬нее литературный художник из всех фи¬гуративистов, которых я знаю. Цвет — это три Четверти содержания его хол¬стов. Но атакующая сочность его цвета тоже политически пугала. В 1965 году впервые была открыта его выставка в До¬ме культуры института Курчатова, но организаторам здорово влетело; Они вы¬нуждены были публично покаяться в сво¬ей идейной незрелости. В 1970 году Дом архитектора организовал выставку-однодневку Целкова. Выставка побила миро¬вой рекорд... скорости выставок — её закрыли через пятнадцать минут. Некто, помахав красной книжечкой перед носом перепу-ганного директора потребовал отключить свет, удалить публику, снять картины. На следую-щий день Целкова исключили из союзов художников за самовольную(!!) организацию вы-ставки.
Я кинулся выручать товарища — к Фурцевой, тогдашнему министру культуры. Именно она когда-то разрешила песню «Хотят ли русские войны», которую пол¬года запрещали ис-полнять по радио как якобы «демобилизующую наших воинов». Фурцева и на сей раз была в добром на¬строении. «А что если нам вот сейчас, с ходу махнуть в мастерскую к этому Цел-кову?» — с энергичной демократичностью предложила она. «Лучше не стоит, Екате¬рина Алексеевна... — вздохнул я. — Вам будет труднее защищать автора, когда вы увидите его картины...» Фурцева оценила, мое предупреждение и при мне сразу по¬звонила в Союз ху-дожников, напустила на себя начальственный гнев: «Это исклю¬чение — поспешность, кото-рая может пе¬рейти в политическую ошибку», — сказа¬ла она в телефонную трубку на риту-аль¬ном лексиконе и подмигнула мне.
Целкова восстановили. Но что измени¬лось в его жизни? Картин его официально не поку-пали, а для Целкова это траге¬дия, ибо он не интерьерный, а музейный художник. Картинам его тесно в жилых комнатах. Целкова опять не выставляли — за исключением коллективной выставки неофициальных художников, которую па¬родийно загнали в павильон «Пчеловод¬ство» на ВДНХ, окружив смехотворно многочисленным кордоном милиции. Целков там впе-рвые выставил свой трагиче¬ский, спорный холст «Тайная вечеря», где на грани мятежного богохульства изобра¬зил Христа и тринадцать апостов как роботообразных заговорщиков против че¬ловечества. Но может быть, таковой ему виделась тайная вечеря не Христа, а Ан¬тихриста?
Картины накапливались. Чувство пер¬спективы терялось. Вон она чем была страшна, тря-сина застоя, — она всасыва¬ла в безнадежность. Многие талантливые люди становились пес-симистами, а беста¬ланные оптимистично перли вперед.
Целков не хотел уезжать за границу — он хотел съездить. В 1977 году он полу¬чил пригла-шение из Франции. Один из тогдашних начальников ОВИРа пообе¬щал ему паспорт на два месяца. Жена Целкова просила меня присмотреть за их квартирой, выпросила у меня довоен-ное собрание Мопассана, чтобы ублажить ка¬кого-то овировского чиновника, бравше¬го взят-ки не борзыми щенками, но дефи¬цитными книжками. Я скрепя сердце от¬дал Мопассана. И вдруг в ОВИР-е нача¬лась очередная чиновничья чехарда. Целковых вызвал их благодетель и с осунув¬шимся лицом сказал: «В общем, так: ли¬бо сейчас и насовсем, либо никогда…» А ве-дь это страшное слово — «насов¬сем», особенно если оно соединяется со словом «Родина». Многие, и не толь¬ко художники, никуда не уехали бы, ес¬ли бы перед ними не ставили когда-то такую антигуманную дилемму — либо сейчас и насовсем, либо никогда…
Целков, мой ближайший друг, уезжал. Имел ли я право просить его, чтобы он этого не де-лал? Что я ему мог пред¬ложить — выставку на Кузнецком, закуп¬ку его картин Третьяков-кой? Какое имел я право отобрать у него возможность наконец-то увидеть Лувр, Прадо, Мет¬рополитен, Тейт галерею, Уффици? Но почему за право увидеть эти великие музеи он дол-жен был платить такую страш¬ную цену — потерю Родины? Почему до революции наиболее талантливым моло¬дым художникам давали стипендии, по¬сылая их в Италию, во Францию, чтобы они видели шедевры в оригиналах?
Тоня Целкова ворвалась ко мне перед самым отъездом, вся зареванная. Специ¬альная ко-миссия при Министерстве куль¬туры потребовала, чтобы Олег за выво¬зимые собственные картины уплатил 22 тысячи рублей. Таких денег Олег и сроду-то в руках не держал. Худ-фонд вы¬дал ему справку, что за 15 лет членства в Союзе художников он заработал всего 4500 руб. (!!). «Такие картины не стоят ни гроша!» — презрительно усмехались над холстами Целкова. И вдруг государ¬ство, не купившее у Целкова ни одной картины, оценило их как нечто стоящее, но лишь при этом проклятом отъезде «насовсем». Старик Рембрандт тоже, ко¬нечно, бывал в разных передрягах, но ему и в страшном сне не приснился бы подобный — дневной и ночной — та¬моженный дозор, следящий за искусст¬вом. Я бросился к тогдашнему заместите¬лю министра культуры Ю. Барабашу и сбивчиво сказал примерно вот что: уезжает замечательный русский художник. Но кто знает, как сложится его личная судьба, как, нако-нец, сложится история. Зачем же оскорблять его этими побора¬ми, как будто нарочно ему хо-тят вну¬шить ненависть к Родине, как будто хо¬тят по-садистски разорвать насовсем ни¬ти, со-единяющие его с культурой, сыном которой он был. У Барабаша, была репу¬тация жесткого, сухого человека. Но, к его чести, он понял мои аргументы и помог. На следующий день 22 тысячи волшебно превратились всего в две.
Мало того — у Целкова приобрели не¬сколько гравюр на сумму именно две тысячи руб-лей, и практически он уехал бесплатно. Но вынужденная эмиграция не бывает бесплатной ни для самого ху¬дожника, ни для общества. Что-то они оба непоправимо теряют. Мучительно уезжать, мучительно жить вдали без надежды на возвращение или хотя бы на приезд. Его жена рассказывала мне, как по ночам, когда Олег засыпал, она тихонько выла в ладони от страха. К чести Олега, он не опустился до политической суеты, до спекуляции собственным «эмигрантством». Он не раз¬базаривал время попусту, выделил себе один выходной, как он выражается, «му¬зейный день» — пятницу. В Париже ведь 700 картинных галерей — есть что посмотреть. Он многое написал, вы¬рос как художник. Совсем недав¬но в нем вдруг возникла дымчатость, мягкость, и от своих конвейерных страшилищ он вернулся к нежным натюрмор-там. Его «маршаном» (продавцом) стал Эдуард Нахамкин, бывший рижский экономист, ны-не открывший несколь¬ко галерей русской живописи в США. Времена изменились, и Нахам-кин сейчас регулярно приезжает в СССР, покупая картины и приглашая наших мо¬лодых ху-дожников.
Материально Олег живет вполне обес¬печенно и благодарен Франции за то, что она дала ему приют. После долгой, изнурительной борьбы с ОВИРом мне еще несколько лет назад удалось до¬биться того, что к нему съездили в Па¬риж его родители. Олег с огром¬ной надеж-дой следит за перемена¬ми, происходящими в нашей стра¬не, не впадая в розовую эйфорию, но и не опускаясь, как некоторые, до недоброжелательного накаркивания. За границей меня-ются почти все — в луч¬шую или худшую сторону. Олег поража¬ет меня тем, что он совер-шенно не изменился по характеру. Он побывал во многих странах со своими выставками и никогда вслух не жалуется на носталь¬гию — лишь иногда у него вырывается: «Эх, сейчас бы постоять на тяге вальдшнепов где-нибудь около деревни Лужки...»
Но это страшное слово «насовсем», оброненное овировским «благодетелем», до сих пор терзает мою душу. Только что мы отметили тысячелетие христианст¬ва на Руси, но разве мы всегда помним его общенравственные постулаты, выходя¬щие за религиозные рамки? Я не о все¬прощении говорю. Предателей Родины, сотрудничавших с гитлеровцами, не про¬щу в сер-дце своем. Им к нам дорога должна быть закрыта именно насовсем, а если и открыта, то ли-шь на скамью под¬судимых.
Но разве можно ставить на одну дос¬ку с предателями Родины наших мно¬гих вынужденно уехавших художников, мужественно противостоявших
бульдозер¬ным ножам? Если кто-то из этих художни¬ков даже в чем-то и виноват, то разве наше общество ни в чем не виновато пе-ред ними? Среди уехавших нужно отделять политических спекулянтов от тех, кто со¬хранил в душе чувство Родины, не оскор¬бил ее имени. Но если люди выступали против бюрократии, не надо приписывать им деятельность против Родины.
Сейчас не время обоюдного зло¬памятства. Сейчас время собирательст¬ва русской культу-ры. Я говорил с сегодняшними руководителями Союза ху¬дожников СССР А. Васнецовым, Т. Салаховым, они в целом относятся положительно к идее выставки Олега Целкова на Родине, помнят его юношеские ра¬боты. Но решение о выставке Михаила Шемякина уже, кажется, давно принято. А судя по выступлению в «Правде» в поддержку зтой выставки, до открытия ее еще далеко. Не мешают ли тайные люби¬тели этого унизительного для человеческо¬го до-стоинства словечка «насовсем»?
В этой статье я постарался нарисовать достаточно подробную картину того, что произош-ло с Целковым и некоторыми другими художниками.
Итак, кто сильней на этой картине? Чиновничий симбиоз наглого унтера Пришибеева и робкого, трясущегося от стра¬ха Акакия Акакиевича?
Или все-таки отважный разум собира¬тельства нашей национальной культуры? Неужели все наши трагически уехавшие художники будут приезжать на Родину только в шагалов-ском. почти девяносто¬летнем возрасте?
Литературная газета, 10 августа 1988, №32 (5202)
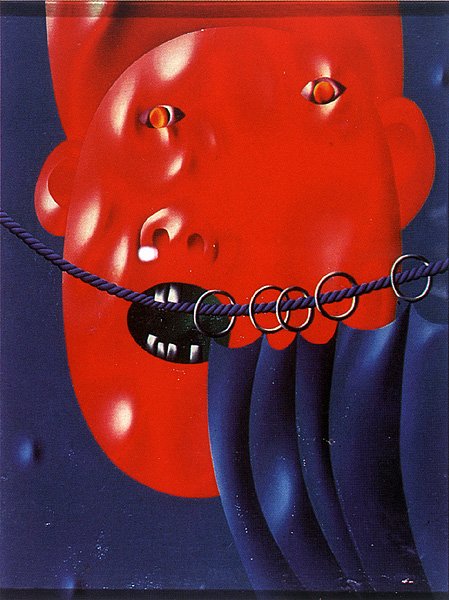
Просмотров: 2486 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Евг. Евтушенко
У меня на стене переделкинской дачи висит картина. Кто бы ни при¬ходил ко мне, картина гипнотически притягивает, первого взгляда, меться, нравится она или не нравится. Иногда вызывает восторги, иногда ошара¬шивает, даже пугает.
Картина называется «День рождения с Рембрандтом». В темно-алых размывах-то ли кро-ви, то ли взвихренных пожаров - два художника, родившихся в один лень, 15 июля, но один из них, Рембрандт, — в 1606 году в Лейдене, другой, автор картины Олег Целков, — в 1934 году в Москве того и у другого в руках бокалы, наполненные то ли красным вином, то ли пламенем истории. Русский наклонил¬ся к голландцу и что-то заговорщицки, шепчет ему на ухо, а может быть, что-то спрашивает, да не просто, а поддевая, подкалывая. Озорная, но в то же время не очень-то веселая дьявольщинка про¬сверкивает в глазах русского, наделенно¬го страшным превосходством знания всего того, что случилось на планете после смерти Ремб-рандта. Жутковатая сила, жи¬вучесть есть в этом русском художнике, прошедшем школу ма-газинных очередей, коммунальных кухонь, битком набитых трамваев, школу страха перёд ночным звонком в дверь, школу хрущевских кри¬ков на художников, школу разгрома выстав-ки на пустыре бульдозерами при Брежневе, школу невыпускания за грани¬цу, невыставления и непокупания картин, школу бесчисленных исключений, запре¬щений, угроз.
Рембрандт на целковской картине уж не тот, с колен которого так обворожи¬тельно улыба-лась Саския, по его гениаль¬ной воле раз и навсегда повернувшаяся лицом ко всем будущим поколениям, но Рембрандт умирающий, который справля¬ет свой последний день рождения вместе с русским странным художником, который по воландовскому мановению перемес-тился во времени. Это Рембрандт, уже не добивающийся славы, а добившийся ее, но и пре-зревший. Это Рембрандт, выдер¬жавший и старость, и безденежье с не меньшим достоинст-вом, чем молодость и деньги. Это Рембрандт, простивший жизни все, что она отобрала у не-го, за все, что она дала ему. Это Рембрандт, не опустив¬шийся до хитрости, но и не отказав-шийся от крестьянского колабрюньоновского лу¬кавства.
Много раз задавал сам себе вопрос: кто сильней на этой картине? Спрашивал и гостей. Лучший ответ дал, пожалуй, Габриэль Гарсиа Маркес: «Оба сильнее». Неплохо сказал и один грузинский гость, пожелавший остаться неизвестным: «Силь¬ней тот, кто бокал держит ни-же». На кар¬тине ниже бокал держит старший. Но са¬мое горькое в том, что почти никто из моих гостей (за исключением некоторых Иностранцев и советских специалистов по живопи-си) не узнал, чьей кисти эта кар¬тина, а когда я называл фамилию Целкова, переспрашивали.
Целков был одним из двух-трех самых моих близких друзей. К нему я мог при¬ехать без звонка в любое время дня и но¬чи — и один, и вдвоем, и даже с большой компанией. Однаж-ды, выйдя из его квартиры ночью, мы купались при лунном свете в канале, как будто проща-лись на¬всегда и с нашей молодостью, и друг с другом: Белла Ахмадулина, Василий Аксе¬нов, Булат Окуджава, японская девушка Юка, Олег и я. Как будто с заранее предугаданной непо-правимостью я в своей жизни разошелся с некоторыми, но не с Олегом. У него был великий дар хранения дружбы. Секрет этого дара, ви¬димо, в терпимости к чужим, непохожим на соб-ственный характер мнениям. В этом смысле Целков в жизни больше похож на Рембрандта с той картины, чем на нари¬сованного Целковым Целкова. Он никогда не поучал, не лез в со-ветчики, но и сам не выпрашивал советов. У него было ред¬чайшее качество — умение при-нять чу¬жую боль и умение исповедаться. Он был способен помочь в беде, но и не позавидо-вать в счастье. Всю жизнь борясь с безденежьем, он не считал в воображе¬нии чужих денег и без своих умел, обхо¬диться почти незаметно и даже элегантно.
Я прошел вместе с ним многие тысячи километров и по Вилюю, и по Алдану на моторных лодках. Он был смешным в сво¬их городских ужасах и восторгах перед сибирской природой, но всегда оставался трогательнейше преданным, а было нуж¬но — и бесстрашным товари-щем. Первые года два, когда он так неожиданно для всех и для себя уехал, несколько раз я ловил свою автомашину на том, что она как бы сама инстинктивно норовила по¬ехать к нему ночью в Орехово-Борисово, пока я не спохватывался, что Целкова там уже нет и не будет. Уже целых одинна¬дцать лет он не ходил по московским ули¬цам, которые так любил всей своей бро¬дяжьей душой полуночника. Его не успели здесь признать, но забыть успели. Его помнят только родственника, личные дру¬зья, некоторые профессиональные художники и коллекционеры. Никогда не зани¬мавшийся политикой, он живет во Фран¬ции с паспортом «политического бежен¬ца», что, впрочем, позволяет ему свободно ездить по всему белому свету и выстав¬ляться, выставляться, выставляться. Везде, за исключением Родины.
В прошлом году итальянское издатель¬ство «Фаббри» выпустило цветную монографию-гигант, посвященную Олегу Целкову, в серии «Выдающиеся мастера XX века». Лишь немно-гие живые художники удостоились чести быть включенными в эту серию. Так что же прои-зошло? Поче¬му наша страна позволила себе преступную «роскошь» уворовать у самой себя и Целкова, и многих других художников — по приблизительным подсчетам около двухсот? Это произошло не в сталинское время, а уже после двадцатого съезда. Все мы несем за это ответственность. Конечно, именно сталинское время было колыбелью беспрецедентного в истории национального самоворовства. У стольких наших поколений был украден великий русский авангард — Кандинский, Малевич, Филонов, Гончарова, Ларионов, Татлин, Тыш-лер, Лентулов, Родченко, Мельников!
Железный занавес между двумя систе¬мами стал стеной между двумя культура¬ми. Ахмато-ва, по собственному призна¬нию, лишь случайно, с огромным опозда¬нием узнала, что любив-ший ее в Париже безвестный итальянец Модильяни по¬смертно стал всемирной известнос-тью. В 1962 году Шагал, которого я посетил в его доме во Франции, сказал, что он хочет умереть на Родине, подарив, ей все принадлежащие ему картины, — лишь бы ему дали скро-мный домик в родном Ви¬тебске Шагал передал мне свою моно¬графию с таким автографом для Хруще¬ва: «Дорогому Никите Сергеевичу Хруще¬ву с любовью к нему и к нашей Родине». (Первоначально на моих глазах Шагал сделал описку — вместо «к нему» стояло «к небу»). Помощник Хрущева В.С. Ле¬бедев, никогда не слышавший фамилии Шагала, не захотел пере-дать эту книгу Хру¬щеву. «Евреи, да еще и летают...» — раз¬драженно прокомментировал он репродук¬цию, где двое влюбленных целовались, па¬ря под потолком. Лебедев, который — на-до отдать ему должное — ранее помог напечатать и «Наследников Сталина», и «Один день Ивана Денисовича», был раз¬дражен и даже напуган не случайно. Ата¬ки на художников со стороны Хрущева и окружения перешли в атаки на писателей, на свободомыслящую интел-лигенцию во¬обще. Но. впрочем, и раньше рамки сво¬боды для живописи раздвигались гораз-до медленней, чем для литературы. Ничто гак медленно не меняется, как привычка к визу-альным стереотипам. Даже в самые «оттепельные» времена книгу англичанки Камиллы Грей о русском авангарде конфис¬ковывали наши несгибаемые таможенники. Нравственная кас-трация породила кастра¬цию художественную, даже стилевую. Не¬обычная художественная форма уже вос¬принималась как антисоветское содержа¬ние.
Но все-таки железный занавес проржа¬вел, и сквозь его дыры с острыми, боль¬но ранящими краями просачивались люди, книги — и в ту, и в другую сторону. К со¬жалению, в ту сторону уходили оригиналь¬ные картины, написанные здесь, а в эту ходили лишь репродукции Саль-вадора Дали, Макса Эрнста, Хоана Миро, мно¬гих других. Когда я недавно был на аук¬ционе Сотбис и видел навсегда уплываю¬щие за границу холсты Родченко, Древина, Удальцовой и талантливые работы на¬ших молодых, еще живых художников, иг¬норируемых государствен-ными закупочны¬ми комиссиями на Родине, то я слушал звучавшие под удары молотка бас-нослов¬ные цифры, как предупреждающий набат. С одной стороны, хорошо, что русскую жи-вопись увидят в других странах, что молодые художники благодаря этому деньгопаду с ка-питалистического неба смогут дальше спокойно работать, не суе¬тясь ради поденщины. Но все-таки кошки скребли у меня на сердце. Почему мы са¬ми не могли у себя купить эти кар-тины? Все это опять пахнет национальным самоворовством. Но вернемся к Целкову.
По его собственным признаниям, в ран¬нем детстве его никто постоянно не учил живопи-си. Однажды в пионерском лагере художник Михаил Архипов по¬тряс Олега красочными рассказами о мире художников, о живописи, о ее святом предназначении. Впечатлительный подросток в течение одной бессонной но¬чи вдруг осознал, что он тоже худож¬ник. Олега при-няли в Суриковскую сред¬нюю художественную школу. Его мама вспоминает: «В школе при поступле¬нии ему дали стипендию — 20 рублей. Для пятнадцатилетнего мальчика и скром¬ного бюджета семьи средних служащих это было даже очень много. Но за пер¬вые две карти-ны, представленные на зим¬ней сессии, Олег был лишен этой стипен¬дии. На одной опальной картине был изо¬бражен концлагерь. Из-за колючей про¬волоки смотрели безнадежные, приу-чен¬ные к повиновению лица. Картину обви¬нили в пессимизме, в отступлении от социалисти-ческого реализма, в слишком трагическом изображении лагерной жиз¬ни, ибо в глазах людей не светилась на¬дежда на скорое приближение советских войск. Вторая — композиция: оди-нокий солдат играет на гитаре на малень¬кой пристани туманным, мглистым ут¬ром. Директор вызвал отца и с глазу на глаз допрашивал: почему у его сына могли возникнуть упадниче-ские настрое¬ния, с кем он дружит, нет ли у него в друзьях старшего художника, который на него дурно влияет? Отец удивился: «По¬чему?» «А видите — солнца нет! Облака, сырость, серость...» «Это было первое ЧП в моей жизни, — говорил Олег, — но тем не менее это было мое крещение, с этого случая начался я как художник».
В такой обстановке рос Олег Целков и его ровесники — юные художники. Когда Олег за-кончил школу, то на просмотре работ школьников руководителями суриковского института один из них топал но¬гами у целковских картин и кричал: «Этой кончаловщине у меня не бы-вать!» Олег все-таки решил поступать в институт, и его, разумеется, провалили. На некото-рых ранних картинах когда-то стояли жирные двойки мелом. Целкова неожиданно поддер-жал столп тогдашней официальной жи¬вописи Б. Иогансон. Сохранилось его письмо, направ-ленное в Минский теат¬ральный институт: «Рекомендую Олега Целкова как прекрасный ма-териал для будущего художника... Он является превос¬ходным живописцем, и уверен, что оп-рав¬дает возложенные на него надежды». Иогансон в данном случае проявил последователь-ность. Когда Целкова исключили в Минске (за формализм), через год он помог ему посту-пить в Академию худо¬жеств имени Репина в Ленинграде. Однако в академии Олег устроил выставку своих первокурсных работ, и студенты-китайцы написали коллективный протест против этой выставки, как против «разлагающе¬го буржуазного влияния». Где они теперь, эти китайские художники? Не погибли ли они сами, возвративщись в Китай, где, может быть, тоже показались «слишком буржуазными» озверело бушевавшей в своем младенческо-пала-ческом неведении толпе хунвэйбинов?
Целкова исключили из академии. Его выручил замечательный режиссер и художник Ни-колай Акимов, взявший Олега на свой курс в театральный институт. Именно тогда, в 1957 году, Слуцкий, с ко¬торым мы вместе приехали на поэтические совместные чтения в Ленин-град, мне представил моего будущего близкого дру¬га слегка шутливо, но с долей серьезно¬сти: «Олег Целков — возможно, будущий гений...» Стройный, красивый, темногла¬зый юно-ша с вьющимися волосами стоял, с небрежной независимостью опершись плечом о косяк двери, в модной тогда для литературных посиделок квартире ленин¬градского писателя Ки-рилла Косцинского. В позе Целкова было что-то от Долохова, готового шагнуть к подокон-нику. Но в отличие от Долохова в Целкове никогда не было издевательской насмешливости над другими, а свойственное всем настоящим людям искусства детское любо¬пытство к лю-дям, к жизни. Мы подружи¬лись с ним с первого взгляда.
До встречи с Олегом я был поклонни¬ком Глазунова. В 1957 году в ЦДРИ со¬стоялась сен-сационная выставка работ этого никому доселе неизвестного ленин¬градского сироты, жена-того на внучке Бенуа, изгоя академии, по слухам, спавшего в Москве в ванне вдовы Яхон-това. После бесконечных Сталиных, после могу¬чих колхозниц с не менее могучими сно¬пами в питекантропски мощных ручищах — огромные глаза блокадных детей, мучи¬тельное лицо Достоевского, трагический облик Блока среди свиных рыл в ресто¬ране, современные юноша и девушка, про¬сыпающиеся, друг с другом в городе, похожем на гетто, где над железной ре-шет¬чатой, спинкой их кровати дымятся трубы чего-то жестокого, всепожирающего. Однаж-ды зимней ночью мы вместе с Глазу¬новым выносили его картины, спрятанные в общежитии МГУ, и просовывали их сквозь прутья массивной чугунной ограды с такими же чугунными гербами СССР грузили эти картины в мой облупленный «Москвич», и струи вьюги били в за¬стекленное лицо Ксюши Некрасовой. Мог ли я тогда представить, что попираемый и опле-вываемый художник Глазунов вскоре станет неофициальным официальным ху¬дожником МИДа и в высокомерно-уничи¬жительной манере будет говорить о рус¬ском многострадаль-ном авангарде, как это недавно прозвучало по телевидению.
Целкова начали, поносить со школь¬ной скамьи. А уже в 1957 году за¬грохотали не только легкие, но и тя¬желые — академические — орудия. Так, например, академик Юон в своей ста¬тье, перечисляя отступников от социа¬листического реализма, назвал нынешнего председате-ля правления Союза художников СССР А. Васнецова, Ю. Васильева К. Мордовина, Э. Неиз-вестного, О. Целкова. На пленуме правления Союза художни¬ков было обронено и такое суж-дение: «Очень плохой фальшивкой под Сезанна являются натюрморты О. Целкова» («Совет-ская культура», 4 июня 1957 го¬да). Заодно от Целкова открестился и его бывший «крестный отец» — Иогансон. Но почти одновременно картинам молодо¬го художника была дана и про-тивополож¬ная оценка человеком, который был дру¬гом Пикассо и вообще кое-что соображал в искусстве. Этим человеком был Пабло Неруда, увидевший всего-навсего два цел¬ковских натюрморта на молодежной выс¬тавке в Москве. Он прислал Олегу пись¬мо, где были такие слова: «На вашем художническом пути вы выглядите как правдивый реалист, у которого есть своя экспрессия и поэзия. Браво!» В Целкова сразу поверил революционный ту¬рецкий поэт Назым Хикмет и предло¬жил ему работу по оформлению сво¬его спектакля «Дамоклов меч» в Теат¬ре сатиры. Думаю, что в работах Целко¬ва Хикмет видел отблески того великого авангарда, который ему посчастливилось увидеть в двадцатые годы в Москве Мая¬ковского и Мейерхольда, На эти отблески к Целкову тянуло и Кирсанова, и Лилю Брик, и Катаняна. Не-задолго до своей кончины целковскую квартиру посетила Анна Ахматова, не слишком бало-вавшая живописцев своими посещениями.
Целкова приняли в Союз художников, в театральную секцию. Но его работы никакие офи-циальные организаторы не покупали. Если бы не постоянная помощь родителей, несмотря ни на что веривших в талант сына, Олег не выдержал бы... Но все-таки появились и первые покупате¬ли. Это были тогда совсем молодые акте¬ры М. Козаков, А. Гурченко, нищий в то время минский художник Борис Заборов, ныне живущий в Париже в одном доме с Целко-вым, другой, тоже нищий москов¬ский художник Юрий Соболев, геолог Анатолий Гаврилов, коллекционер-энтузиаст Евгений Нутович, несмотря на пустые карманы, сумевший собрать целую анто¬логию русской современной живописи, еще один художник, Арнольд Остроумов, журналист Леонид Шинкарев, физик Рубен Сейсян. Переломным для «покупательной репу-тации» Олега был момент, когда несколько его холстов приобрел один из знаменитейших коллекционеров русского, авангарда — Костаки. Первой крупной работой Целкова, продан-ной за рубеж, был «Групповой портрет с арбузом», опи¬санный мной в поэме «Голубь в Сан¬тьяго». «Там с хищными огромными ножами, всей своей сталью жажду¬щими крови пока еще арбуза, а не жертвы, тринадцать морд конвейер¬ных, безликих со щелками свиными вме¬сто глаз, как мафия, позируя, застыли над первой алой раной, из которой растерян¬ные семечки взвились». Эту картину при¬обрел приехавший тогда в СССР Артур Миллер, впоследствии самым высоким об¬разом написавший о Целкове, Я был сви¬детелем того, как Сикейрос и Гут-тузо, два «объевшихся красками всезнайки», жадно и деловито спросили, чем написа¬ны его картины. Олег спокойно перевер¬нул холсты, где на обратной стороне был записан состав красок и лаков. Два ста¬рых волка живописи прилежно все пе¬реписали, как мальчики. Это было выс¬шим профессиональным признанием.
От натюрмортов, в которых действительно было некоторое влияние Сезанна, Целков мед-ленно и могуче вышел к серии индивидуальных и групповых портретов конвейерно-робото-образных особей, порожденных веком расщеплен¬ного атома и электроники, веком Дахау, Гу-лага, Хиросимы. Эти особи страшноваты, но тем не менее им не чуж¬ды сентиментальные, вполне человеческие порывы, и их автоматизированная психо¬логия колеблется где-то на гра-ни между фашизмом и детско-дикарской наивно¬стью. Тип этих особей интернационален, ибо их можно встретить и в Нью-Йорке, и в Люберцах. Серия получилась внуши¬тельная, веду-щая свою родословную в ка¬кой-то степени от «Женщины с коромыс¬лом» Малевича, от неко-торых, образов Леже. Но генеалогическое древо этих особей росло из реальности, и вот это-го-то реализма и испугались «борцы за реа¬лизм». На самом деле эти «борцы за реа¬лизм» бы-ли абстракционистами, ибо на своих угодливых картинах рисовали несуществующую, абст-рактную советскую жизнь. Эти «борцы за реализм» травили жившего в лианозовском бараке художни¬ка Оскара Рабина, со страшной реалисти¬ческой простотой описавшего барачную жуть. Когда «искусствоведы» с повяз¬ками дружинников моторизованно ата¬ковали знамени-тую выставку на пусты¬ре, Рабин лишь в последнюю секунду успел вскочить на нож идущего на него бульдозера стал балансировать на острие ножа со своей спасенной им карти¬ной. Так и жили многие наши художники — стоя на острие ножа со своими карти¬нами.
Художник Юрий Васильев во время войны служил в летных частях, был сбит, уцелел чу-дом, вступил в партию. После войны он сначала занимался, как многие студенты, слащавым кондитерским реализ¬мом. Но честь ему и слава за то, что он одним из первых русских совет-ских ху¬дожников вернулся к забытым, попранным традициям великого авангарда. Васильев перешел к реализму фантазий, видений, создав и атомную Леду, любовно ласкаю¬щую реак-тивный самолет, и Клевету — чудовищную металлическую бабищу, перемалывающую и по-жирающую людей. Его, изобличителя клеветы, немедленно самого обвинили в клевете. К не-му явились чле¬ны партбюро МОСХа, чтобы идеологиче¬ски «проверить» его картины. Юрий Ва¬сильев, как восставший с печи Илья Муро¬мец, встал в дверях вместе со своими ма¬лыми детьми и женой, держа в руках за¬ряженный охотничий карабин, и сказал, что если они осме-лятся незвано пере¬ступить его порог, он убьет и своих де¬тей, и жену, и себя. Вот что скрыва-лось за счастливой улыбкой Юрия Васильева, когда я видел его фотографию в газетах на от-крытии выставки в Японии.
Запихнутый в психушку Михаил Шемя¬кин сделал там потрясающие реалистиче¬ские на-броски карандашом с натуры, а его самого за это обвинили в «искажении советских психле-чебниц», в психопатстве. Вот что скрывается за озабоченным ли¬цом Шемякина, когда сейчас в качестве председателя комитета по спасению со¬ветских военнопленных-афганцев он борет-ся в Нью-Йорке за человеческую жизнь. Скульптора Эрнста Неизвестного, разведчика, ко-мандира взвода, посмертно (считали, что он убит) награжденного за подвиги, человека, у ко-торого вся спина изрыта осколками» оскорбил глава госу¬дарства, крича ему: «Забирайте ваш пас¬порт и убирайтесь вон!» Предугадывал ли глава государства, что именно этот скульптор, оценив освобождение и реабилитацию стольких невинных людей выше личной обиды, по-ставит ему памятник на могиле? Э. Неизвестного под горячую руку почему-то называли аб-стракционистом. После зва¬ного обеда для интеллигенции в Доме приемов топтуны, кряхтя, выне¬сли его скульптуры и расставили на столе правительства, еще в жир¬ных пятнах от шаш-лыков. Из-за скульпту¬ры, изображавшей лагерного мальчика с мышкой в руках, глядело за-сушенное инквизиторское лицо Суслова. Жертва в бронзе и идеологический надзиратель смотрелись как единый архитектурный ан¬самбль. Какой тут к черту абстракцио¬низм! Инсти-нктивный страх невежества на самом деле был направлен против реалистического портрети-рования эпохи. Кошка знала, чье мясо она съела, и хоте¬ла, чтобы на ее портретах было толь-ко невинное молочко на усиках, а не кровь. Но почему же заодно преследовали и абстракци-онизм — ведь, казалось бы, это самый политически безопасный стиль? Абстракционизма бо-ялись потому, что в буйных набрызгах красок мерещился спря¬танный, как в ловком фокусе иллюзиони¬ста, уничижительный портрет.
Агрессивное непонимание есть самопро¬вокация страха. Невежество не хочет признать, что оно чего-то не понимает. Не¬вежество инстинктивно ненавидит объект своего непонима-ния, создает из него об¬раз врага. В поле агрессивного непонима¬ния оказался и Олег Целков. Он сам ни¬когда не был агрессивным, никогда не был охочим до таких рекламных сканда-лов, когда остреньким политическим соу¬сом пытаются сделать более аппетитной позавче-рашнюю заветренную котлету, в которой мясо, может быть и ночевало, но даже не помяв по-душки. Олег всегда любил свою Родину, ее искусство, не принимая лицо бюрократии за ли-цо Родины. Он был слишком занят самосовершенствованием, чтобы звонить иностран¬ным корреспондентам и оповещать их за¬годя о том, когда его будут очередной раз «подвергать преследованиям». Целков не подпадал ни под один стереотип, не принадлежал ни к какой группе, не участ¬вовал в политических акциях, и тем не ме¬нее его все уважали, с его мнением считались. Возможно, кому-то он казался даже тайным лидером всех подпольных художни-ков. Логика была уголовная: «Раз все уважают, значит, пахан». А уважать было за что. Цел-ков — человек на редкость доб¬рожелательный и широкий во вкусах. Од¬нажды целый вечер он мне восхищённо го¬ворил о подвиге передвижников и сказал, что перовская «Тройка», где крестьянские дети везут на санках обледенелую бочку, — одна из его любимых картин. Я ни от одного художника не слышал столько доб¬рого о других художниках. У Целкова есть одна редкостная черта — уверенность в себе, не переходящая в зазнайство. Это уверенность ма-стерового, знающего свое дело. На зависть и ненависть у настоя¬щих мастеров просто-напро-сто нет вре¬мени.
Целков, любящий литературу, наиме¬нее литературный художник из всех фи¬гуративистов, которых я знаю. Цвет — это три Четверти содержания его хол¬стов. Но атакующая сочность его цвета тоже политически пугала. В 1965 году впервые была открыта его выставка в До¬ме культуры института Курчатова, но организаторам здорово влетело; Они вы¬нуждены были публично покаяться в сво¬ей идейной незрелости. В 1970 году Дом архитектора организовал выставку-однодневку Целкова. Выставка побила миро¬вой рекорд... скорости выставок — её закрыли через пятнадцать минут. Некто, помахав красной книжечкой перед носом перепу-ганного директора потребовал отключить свет, удалить публику, снять картины. На следую-щий день Целкова исключили из союзов художников за самовольную(!!) организацию вы-ставки.
Я кинулся выручать товарища — к Фурцевой, тогдашнему министру культуры. Именно она когда-то разрешила песню «Хотят ли русские войны», которую пол¬года запрещали ис-полнять по радио как якобы «демобилизующую наших воинов». Фурцева и на сей раз была в добром на¬строении. «А что если нам вот сейчас, с ходу махнуть в мастерскую к этому Цел-кову?» — с энергичной демократичностью предложила она. «Лучше не стоит, Екате¬рина Алексеевна... — вздохнул я. — Вам будет труднее защищать автора, когда вы увидите его картины...» Фурцева оценила, мое предупреждение и при мне сразу по¬звонила в Союз ху-дожников, напустила на себя начальственный гнев: «Это исклю¬чение — поспешность, кото-рая может пе¬рейти в политическую ошибку», — сказа¬ла она в телефонную трубку на риту-аль¬ном лексиконе и подмигнула мне.
Целкова восстановили. Но что измени¬лось в его жизни? Картин его официально не поку-пали, а для Целкова это траге¬дия, ибо он не интерьерный, а музейный художник. Картинам его тесно в жилых комнатах. Целкова опять не выставляли — за исключением коллективной выставки неофициальных художников, которую па¬родийно загнали в павильон «Пчеловод¬ство» на ВДНХ, окружив смехотворно многочисленным кордоном милиции. Целков там впе-рвые выставил свой трагиче¬ский, спорный холст «Тайная вечеря», где на грани мятежного богохульства изобра¬зил Христа и тринадцать апостов как роботообразных заговорщиков против че¬ловечества. Но может быть, таковой ему виделась тайная вечеря не Христа, а Ан¬тихриста?
Картины накапливались. Чувство пер¬спективы терялось. Вон она чем была страшна, тря-сина застоя, — она всасыва¬ла в безнадежность. Многие талантливые люди становились пес-симистами, а беста¬ланные оптимистично перли вперед.
Целков не хотел уезжать за границу — он хотел съездить. В 1977 году он полу¬чил пригла-шение из Франции. Один из тогдашних начальников ОВИРа пообе¬щал ему паспорт на два месяца. Жена Целкова просила меня присмотреть за их квартирой, выпросила у меня довоен-ное собрание Мопассана, чтобы ублажить ка¬кого-то овировского чиновника, бравше¬го взят-ки не борзыми щенками, но дефи¬цитными книжками. Я скрепя сердце от¬дал Мопассана. И вдруг в ОВИР-е нача¬лась очередная чиновничья чехарда. Целковых вызвал их благодетель и с осунув¬шимся лицом сказал: «В общем, так: ли¬бо сейчас и насовсем, либо никогда…» А ве-дь это страшное слово — «насов¬сем», особенно если оно соединяется со словом «Родина». Многие, и не толь¬ко художники, никуда не уехали бы, ес¬ли бы перед ними не ставили когда-то такую антигуманную дилемму — либо сейчас и насовсем, либо никогда…
Целков, мой ближайший друг, уезжал. Имел ли я право просить его, чтобы он этого не де-лал? Что я ему мог пред¬ложить — выставку на Кузнецком, закуп¬ку его картин Третьяков-кой? Какое имел я право отобрать у него возможность наконец-то увидеть Лувр, Прадо, Мет¬рополитен, Тейт галерею, Уффици? Но почему за право увидеть эти великие музеи он дол-жен был платить такую страш¬ную цену — потерю Родины? Почему до революции наиболее талантливым моло¬дым художникам давали стипендии, по¬сылая их в Италию, во Францию, чтобы они видели шедевры в оригиналах?
Тоня Целкова ворвалась ко мне перед самым отъездом, вся зареванная. Специ¬альная ко-миссия при Министерстве куль¬туры потребовала, чтобы Олег за выво¬зимые собственные картины уплатил 22 тысячи рублей. Таких денег Олег и сроду-то в руках не держал. Худ-фонд вы¬дал ему справку, что за 15 лет членства в Союзе художников он заработал всего 4500 руб. (!!). «Такие картины не стоят ни гроша!» — презрительно усмехались над холстами Целкова. И вдруг государ¬ство, не купившее у Целкова ни одной картины, оценило их как нечто стоящее, но лишь при этом проклятом отъезде «насовсем». Старик Рембрандт тоже, ко¬нечно, бывал в разных передрягах, но ему и в страшном сне не приснился бы подобный — дневной и ночной — та¬моженный дозор, следящий за искусст¬вом. Я бросился к тогдашнему заместите¬лю министра культуры Ю. Барабашу и сбивчиво сказал примерно вот что: уезжает замечательный русский художник. Но кто знает, как сложится его личная судьба, как, нако-нец, сложится история. Зачем же оскорблять его этими побора¬ми, как будто нарочно ему хо-тят вну¬шить ненависть к Родине, как будто хо¬тят по-садистски разорвать насовсем ни¬ти, со-единяющие его с культурой, сыном которой он был. У Барабаша, была репу¬тация жесткого, сухого человека. Но, к его чести, он понял мои аргументы и помог. На следующий день 22 тысячи волшебно превратились всего в две.
Мало того — у Целкова приобрели не¬сколько гравюр на сумму именно две тысячи руб-лей, и практически он уехал бесплатно. Но вынужденная эмиграция не бывает бесплатной ни для самого ху¬дожника, ни для общества. Что-то они оба непоправимо теряют. Мучительно уезжать, мучительно жить вдали без надежды на возвращение или хотя бы на приезд. Его жена рассказывала мне, как по ночам, когда Олег засыпал, она тихонько выла в ладони от страха. К чести Олега, он не опустился до политической суеты, до спекуляции собственным «эмигрантством». Он не раз¬базаривал время попусту, выделил себе один выходной, как он выражается, «му¬зейный день» — пятницу. В Париже ведь 700 картинных галерей — есть что посмотреть. Он многое написал, вы¬рос как художник. Совсем недав¬но в нем вдруг возникла дымчатость, мягкость, и от своих конвейерных страшилищ он вернулся к нежным натюрмор-там. Его «маршаном» (продавцом) стал Эдуард Нахамкин, бывший рижский экономист, ны-не открывший несколь¬ко галерей русской живописи в США. Времена изменились, и Нахам-кин сейчас регулярно приезжает в СССР, покупая картины и приглашая наших мо¬лодых ху-дожников.
Материально Олег живет вполне обес¬печенно и благодарен Франции за то, что она дала ему приют. После долгой, изнурительной борьбы с ОВИРом мне еще несколько лет назад удалось до¬биться того, что к нему съездили в Па¬риж его родители. Олег с огром¬ной надеж-дой следит за перемена¬ми, происходящими в нашей стра¬не, не впадая в розовую эйфорию, но и не опускаясь, как некоторые, до недоброжелательного накаркивания. За границей меня-ются почти все — в луч¬шую или худшую сторону. Олег поража¬ет меня тем, что он совер-шенно не изменился по характеру. Он побывал во многих странах со своими выставками и никогда вслух не жалуется на носталь¬гию — лишь иногда у него вырывается: «Эх, сейчас бы постоять на тяге вальдшнепов где-нибудь около деревни Лужки...»
Но это страшное слово «насовсем», оброненное овировским «благодетелем», до сих пор терзает мою душу. Только что мы отметили тысячелетие христианст¬ва на Руси, но разве мы всегда помним его общенравственные постулаты, выходя¬щие за религиозные рамки? Я не о все¬прощении говорю. Предателей Родины, сотрудничавших с гитлеровцами, не про¬щу в сер-дце своем. Им к нам дорога должна быть закрыта именно насовсем, а если и открыта, то ли-шь на скамью под¬судимых.
Но разве можно ставить на одну дос¬ку с предателями Родины наших мно¬гих вынужденно уехавших художников, мужественно противостоявших
бульдозер¬ным ножам? Если кто-то из этих художни¬ков даже в чем-то и виноват, то разве наше общество ни в чем не виновато пе-ред ними? Среди уехавших нужно отделять политических спекулянтов от тех, кто со¬хранил в душе чувство Родины, не оскор¬бил ее имени. Но если люди выступали против бюрократии, не надо приписывать им деятельность против Родины.
Сейчас не время обоюдного зло¬памятства. Сейчас время собирательст¬ва русской культу-ры. Я говорил с сегодняшними руководителями Союза ху¬дожников СССР А. Васнецовым, Т. Салаховым, они в целом относятся положительно к идее выставки Олега Целкова на Родине, помнят его юношеские ра¬боты. Но решение о выставке Михаила Шемякина уже, кажется, давно принято. А судя по выступлению в «Правде» в поддержку зтой выставки, до открытия ее еще далеко. Не мешают ли тайные люби¬тели этого унизительного для человеческо¬го до-стоинства словечка «насовсем»?
В этой статье я постарался нарисовать достаточно подробную картину того, что произош-ло с Целковым и некоторыми другими художниками.
Итак, кто сильней на этой картине? Чиновничий симбиоз наглого унтера Пришибеева и робкого, трясущегося от стра¬ха Акакия Акакиевича?
Или все-таки отважный разум собира¬тельства нашей национальной культуры? Неужели все наши трагически уехавшие художники будут приезжать на Родину только в шагалов-ском. почти девяносто¬летнем возрасте?
Литературная газета, 10 августа 1988, №32 (5202)
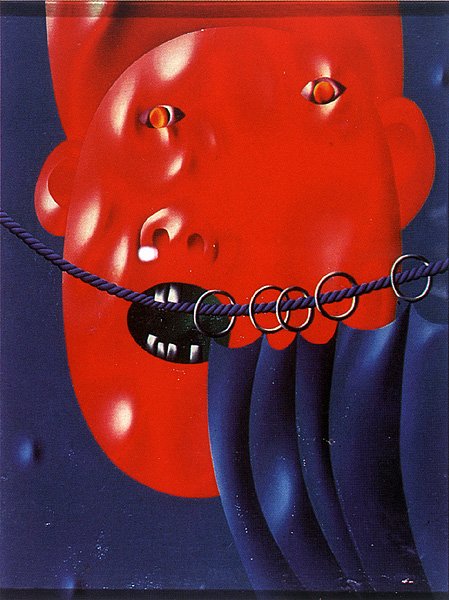
Сегодня 8 апреля сорок лет назад умер Пабло Пикассо.
Я вспомнил когда в первый раз увидел картины Пикассо, вернее одну картину. Эта картина была изображена на почтовой марке в наборе почтовых марок за 1971 год.
Маленькая девочка балансирует на предмете похожим на шар и перед ней, на кубике, сидит здоровенный дядька с большими мышцами. На заднем плане лошадь, тетка и пейзаж. На марке надпись: Пабло Пикассо «Девочка на шаре».
Я наверно целый час вглядывался в рисунок, в краски, в позы девочки и дядьки, которого назвали атлетом. Новое незнакомое слово для меня, как и слово художник. Но в тот момент я даже не знал кто такие художники.
Много позже я понял, что художники это те, которые вытворяют с миром все что им заблагорасудится.
Могут нарисовать банан так, что он похож на банан и подписать «Банан». А то нарисуют женщину или мужчину, или обох вместе так, что нужно вывернуть голову, до хруста в позвонках шеи, чтобы увидеть действительно нарисованных мужчин и женшин.
И я всегда задавался вопросом. Как это им так удается?
В этом смысле Пикассо беспорный мастер.
Видимо это настоящее искусство, которое невозможно описать словами, невозможно глядя на него написать повесть или роман. Его картины надо видеть.


Просмотров: 1228 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
Я вспомнил когда в первый раз увидел картины Пикассо, вернее одну картину. Эта картина была изображена на почтовой марке в наборе почтовых марок за 1971 год.
Маленькая девочка балансирует на предмете похожим на шар и перед ней, на кубике, сидит здоровенный дядька с большими мышцами. На заднем плане лошадь, тетка и пейзаж. На марке надпись: Пабло Пикассо «Девочка на шаре».
Я наверно целый час вглядывался в рисунок, в краски, в позы девочки и дядьки, которого назвали атлетом. Новое незнакомое слово для меня, как и слово художник. Но в тот момент я даже не знал кто такие художники.
Много позже я понял, что художники это те, которые вытворяют с миром все что им заблагорасудится.
Могут нарисовать банан так, что он похож на банан и подписать «Банан». А то нарисуют женщину или мужчину, или обох вместе так, что нужно вывернуть голову, до хруста в позвонках шеи, чтобы увидеть действительно нарисованных мужчин и женшин.
И я всегда задавался вопросом. Как это им так удается?
В этом смысле Пикассо беспорный мастер.
Видимо это настоящее искусство, которое невозможно описать словами, невозможно глядя на него написать повесть или роман. Его картины надо видеть.


Как открывали и «закрывали» Филонова
В. Пушкарев
Воспоминания бывшего директора русского музея
В октябрьские дни из Ленинграда в Москву переехала выставка произведений замечатель-ного русского художника Павла Николаевича Филонова. Выставка которую пришлось ждать десятилетия.
Автор этих заметок — в прошлом директор Русского музея, а ныне секретарь правления МОСХа — один из тех людей, кто утверждал право народа владеть сокро¬вищами своей куль-туры в полном объеме. Не случайно во времена его директорства фонды Русского музея по¬полнились едва ли не на треть. Во многом благодаря ему мы можем сегодня прийти и на вы-ставку Филонова.
Впервые я услышал имя Павла Ни¬колаевича Филонова в 1938 году. Тогда еще были и ак-тивно дейст¬вовали его ученики. «Школа Филонова»! Это были неистовые, преданные после-до¬ватели его творческого метода. Осень, клуб в Академии художеств в Ленингра¬де (бывшая церковь). Поздний вечер, скудное освещение, на сцене три челове¬ка. Двое сидят в глубине, третий мечется по сцене и с необыкновенной страстностью и убежденностью, разгоряченный (а в клубе уже холодно и все сидят в пальто), с растрепанной шевелюрой чи¬тает о Филонове, о его искусстве, его методе работы и обучения. Это была ру¬копись, сочиненная самим орато-ром. Прочтя страницу, он эффектно бросал ее в воздух и начинал следующую. Листки летали, кружились и медленно опуска¬лись на, сцену. Зал был заполнен до отказа, и в нем царила мер-твая тишина. Студенты, осо¬бенно первых курсов, съехавшиеся из разных городов и весей, слушали затаив дыхание. В Академии художеств это был последний всплеск демократии и гласности. А выступал, если я не ошибаюсь за давностью события, студент-живописец Дом-бровский.
Суровые военные годы для него оказа¬лись трагическими. Уходя на фронт в на¬родное ополчение вместе со своим дру¬гом, тоже живописцем, одесситом Костей Веремеенко, они поклялись друг другу, что если один из них окажется смертель¬но раненным, другой обязан пристрелить раненого чтобы сократить непомерные муки. У Кости на животе взорвалась гра¬ната. Домбровский выполнил свою клят¬ву. После войны он продолжал учебу, но это был уже другой человек: задумчивый, неразговорчивый, замкнутый. Вско¬ре он уехал в Крым на рас-копки антич¬ности Под руководством Павла Николае¬вича Шульца, вернувшегося с фронта с отмороженными пальцами обеих рук, и навсегда остался там, в Крыму, став исто¬риком. Кро-ме студенческих, живописных работ его я больше никогда не видел.
На всех факультетах, Академии худо¬жеств в предвоенные (.годы были такие сильные лю-ди. Вскормленные незамутнен¬ной свободой, гордые в своих суждениях и действиях. Это бы-ли личности, ориги¬нальные, творческие мыслители, не умев¬шие кривить душой и прятаться за чужие спины. Уйдя в народное ополчение в 1941 году, почти все они, прямодушные, по-гибли в первые месяцы сражений на ленинградских фронтах.
В предвоенных и послевоенных программах Академии художеств даже для искусствовед-ческого факультета Филонов не упоминался. Он "был забыт и вычеркнут из жизни несколь-ких поколений.
Однако после войны, а точнее, в 50-е и 60-е годы, его имя и искусство стали привлекать все большее внимание и интерес. Это объясняется и тем, что все наследие художника, пере-данное в 1942 году на временное хранение в Русский музей его сестрой Евдокией Николаев-ной Глебовой, было относительно доступно, для знатоков и любителей искусства. В начале 50-х годов Глебова забрала картины Филонова и держала их у себя на квартире. Однако в 1960 году вновь передала их в Русский музей, где, они, и хранились. А в 1977 году Евдокия Николаевна передала в дар Русскому музею 300 работ.
Когда вещи находились на временном хранении в Русском музее, Евдокия Ни¬колаевна брала к себе домой то одни, то другие картины то для показа кому-то, то для продажи, то для фотографирова¬ния, то для дара другим, музеям, в том числе и Третьяковской галерее.
Евдокия Николаевна давала частные уроки вокала и конечно бедствовала. Я бывал у нее на квартире несколько раз, преследуя две цели приобрести для Русского музея произведения Филонова и оказать ей материальную помощь. Купить картины Филонова обычным пу¬тем музею в те годы было невозможно, министерские чиновники, обнаружив фа¬милию Филонова в протоколах, закупоч¬ной комиссии, наверняка пришли бы к убеждению, что мне уже надое-ло быть директором Русского музея.
Я предложил Евдокии Николаевне за числить ее на какую-либо незаметную должность в музее, чтобы она регулярно могла, получать какую-то сумму денег — мизерную, как вы по-нимаете, судя по уровню оплаты труда музейных работников. Когда накопится сумма, соот-ветствующая, по ее мнению, стоимости намеченной картины, эту картину она передаст в дар Русскому музею. Я полагал, что та¬ким способом можно будет приобретать хотя бы по одной картине ежегодно. Евдокия Николаевна сначала согласилась, однако, подумав, отказалась от этой затеи. Конечно, эта маленькая «хитрость» с точки зрения этических критериев, мягко говоря, не была мною продумана. Я об этом вспоминаю просто как о поиске безопасного спо-соба приобретений произведений Филонова.
В 1966 году Ян Крыж издает в Праге монографию о Филонове. Наряду с произведениями, находившимися на временном хранении в Русском музее и кото¬рые брала к себе домой Евдо-кия Николаевна (теперь уже ясно — для фотографирования), в монографии были воспроизве-дены и картины, принадлежащие Русскому музею.
Вашего покорного слугу призвали в Ленинградский, обком КПСС на ковер к т. Александ-рову Г. А. (впоследствии был заместителем министра культуры РСФСР), и началась выволоч-ка! Кто разрешил вос¬производить крамолу? В результате час¬тых вызовов в обком у меня вы-работался «условный рефлекс», и я всегда знал или по крайней мере предчувствовал, по како-му поводу меня призывают. На этот раз я знал. Внимательно, перелистав мо¬нографию, уви-дел, что. вещи Русского Му¬зея напечатаны в ней плохо, они не чет¬ки по контурам и бледны по краскам. Ме¬ня вдруг осенила мысль: да ведь они пе¬чатались со слайдов, снятых с репро-дук¬ций, а не с оригиналов. А вещи, принадлежавшие Евдокии Николаевне, напечата¬ны хоро-шо — ярко и четко по контурам. Значит, они печатались со слайдов, сня¬тых с оригиналов. Прихватив с собой мо¬нографию, я и явился в отдел культуры обкома. И уже на первый окрик («кто разрешил?!») изложил свою «теорию», показывая картинки. Аргументы оказались убе-дительными, и начальство поверило, что я говорю сущую правду. Эта «ма¬ленькая хитрость» сработала, хотя я до сих пор не знаю, существуют ли или существовали ли репродукции с картин Филонова, которые послужили бы «оригиналом» для монографии Яна Крыжа.
А вот в следующем, 1967 году, персональная выставка Филонова в Новосибирске оберну-лась для директора музея Академгородка... потерей кресла.
И все-таки... И все-таки неймется! Пражская монография Филонова навела меня на мысль организовать большую вы¬ставку его работ и показать ее в Пари¬же, Лондоне, Амстердаме, Брюсселе, Ри¬ме, в других городах Европы и закончить это годовое турне в Америке — Ва-шинг¬тоне и Нью-Йорке. Выставка должна со¬провождаться репродукциями, открытка¬ми, дру-гими изданиями. Доходы в валюте от выставки и продажи печатных изда¬ний поступают в СССР. Задумывалось так: каждый город знает, что в Америке будут проданы на аукционе то-лько две картины Филонова, но какие менно никто не знает. Это вызывает рекламу, ажиотаж, суждения в печати. Для Запада Филонов — открытие века. Короче — пол¬ный триумф и ху-дожниками Русского музея. Везде все расходы по страховке, транспортировке и другие берет на себя «проклятая буржуазия».
Но… Как это осуществить, куда податься? Я беру монографию Яна Крыжа и еду в Мос-кву, к доктору Арманду Хаммеру. Он тогда увлекался показом выставок из Эрмитажа и Рус-ского музея. В гостинице «Националь» в его номере мы садимся на диван рядом, плотно друг к другу, как отъявленные шпионы и заговорщики. Хаммер включает на полную катушку те-леви¬зор машет рукой — теперь говорите. Я подробно излагаю ему идею выставки и, показы-вая картинки, монографии, расска¬зываю о мировом значении искусства Фи¬лонова. Сенсация — и Хаммер в центре событий! Немного помолчав, он спраши¬вает: кто разрешит? Демичев? Я, не про¬износя фамилии, отрицательно качаю го¬ловой, «Брежнев?» — спрашивает он. Я ут-вердительно киваю, опять же не произ¬нося фамилии. Кардинальный вопрос был решен. Пос-ле этого пошла более спокой¬ная беседа о предстоящей выставке, о творчестве Филонова, о финансовых со¬ображениях. Я оставил ему монографию и уже в новом здании гостиницы мы по¬обедали, заплатив по трешке за «швед¬ский стол»;
Увы, эта «большая хитрость» так и осталась неосуществленной. Как ни заманчива слава, а бизнес должен быть гарантирован!
Вероятно, где-то в конце 1960-х годов я познакомился с Г. Д. Костаки — круп¬нейшим кол-лекционером русского и совет¬ского авангарда. Он в это время покупал у Евдокии Николаев-ны несколько картин Филонова, одна из которых — «Головы (Симфония Шостаковича)» 1927 года на¬ходится сейчас в Третьяковской галерее.
Когда я бывал у него на квартире в Москве и просматривал удивительную по обширности и подбору качественных произведений коллекцию, он постоянно жаловался на то, что не раз-решают пока¬зывать ее на выставках, и выражал жела¬ние подарить Русскому музею некото-рые вещи с условием, что они будут выстав¬лены в постоянной экспозиции. Выстав¬лять «не-сколько» и наверняка после это¬го быть изгнанным из Русского музея не было резона. И я пре-дложил ему пода¬рить всю коллекцию музею, перевезти ее в Ленинград, подготовить и напе-чатать каталог, развернуть выставку и все это проделать в строжайшей тайне. Когда все будет готово, открыть выставку и дать рекламу. Я понимал, что если бы это осу¬ществилось, меня на второй же день вы¬гнали бы из Русского музея. Но дело было бы сделано: богатейшая коллек-ция рус¬ского и советского авангарда Костаки, соединенная с еще более богатой коллек¬цией картин Русского музея, сделала бы музей мировым центром по изучению и пропаганде этого уникального историче¬ского и художественного явления, поро¬жденного предреволюционным и револю¬ционным временем, временем, от которого мы ведем теперь отсчет нового разви¬тия человечества.
Костаки не отрицал такой возможности, хотя наивность этого (как и предыдущего) плана очевидна, особенно теперь. Ну а что было делать? Хоть помечтать мас¬штабно и с удоволь-ствием, — и то уже казалось каким-то движением вперед!
Я рассказал об этих нескольких эпизо¬дах для того, чтобы показать, как трудно и с какими невероятными зигзагами про¬бивалась дорога к настоящей выставке, к настоящему торжеству и признанию ху¬дожника.
Еще маленькая деталь. Филонов, как известно, не продавал своих картин, они все должны были принадлежать Советскому государству и образовать музей аналитического искусства — отдельный музей Филонова. Но все же каким-то об¬разом за границей оказалось несколько его произведений. Я не изучал специ¬ально этого вопроса. Думаю, что главны¬ми «виновниками» здесь являются част¬ные владельцы и коллекционеры.
Однако, как известно, всегда находятся и любители поживиться за чужой счет. Они окру-жали и доверчивую Евдокию Николаевну. В последний период ее жизни к ней втерлась в до-верие искусствовед Гудкина и под видом написания моногра¬фии о Филонове выкрала у нее 5 — 7 ве¬щей, которые ушли за границу. Состоя¬лось расследование, Гудкина была осуж¬дена, теперь, наверное, уже давно на свободе, а вещи утрачены навсегда, Неко¬торые из них теперь находятся в собра¬нии Людвига (ФРГ).
Второй случай более странный. В Па¬риже, в центре Помпиду, оказалось во¬семь рисунков Филонова. Они опублико¬ваны во французском журнале «Cahier d'Arl». 1983 год. Такие же точно рисун¬ки, с небольшими отклонениями, находят¬ся и в Русском музее. Для творческого метода Филонова копии своих работ ис¬ключены. Значит, где-то оригиналы, а где-то поддел-ки. Западное искусствоведение, очень и очень неплохо знает творчество наших художников авангарда, теперь уже и творчество Филонова. И приобретение сразу восьми подделок в цен-тре Помпиду вряд ли возможно. Значит, у нас в Рус¬ском музее кто-то имел допуск к произве-дениям Филонова при директоре Ново¬жиловой, которая лично контролировала посещение фондов, сделал копии и подменил ими оригиналы. Меня удивляет, что этот случай стараются замять всеми спо¬собами. А между тем при современных технических возможностях экспер-тиза мо¬жет точно ответить на все вопросы.
И последнее. Открытие выставки про¬изведений Филонова — такое важное со¬бытие не то-лько в истории нашего, отечественного искусства, но и мирового. Однако на открытии я не встретил ни одного представителя органов, руководя¬щих культурой. Странно. Гораздо менее заметные вернисажи собирают целый ру¬ководящий иконостас...
Литературная газета, 9 ноября 1988 г., № 45 (5215)
Просмотров: 844 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
В. Пушкарев
Воспоминания бывшего директора русского музея
В октябрьские дни из Ленинграда в Москву переехала выставка произведений замечатель-ного русского художника Павла Николаевича Филонова. Выставка которую пришлось ждать десятилетия.
Автор этих заметок — в прошлом директор Русского музея, а ныне секретарь правления МОСХа — один из тех людей, кто утверждал право народа владеть сокро¬вищами своей куль-туры в полном объеме. Не случайно во времена его директорства фонды Русского музея по¬полнились едва ли не на треть. Во многом благодаря ему мы можем сегодня прийти и на вы-ставку Филонова.
Впервые я услышал имя Павла Ни¬колаевича Филонова в 1938 году. Тогда еще были и ак-тивно дейст¬вовали его ученики. «Школа Филонова»! Это были неистовые, преданные после-до¬ватели его творческого метода. Осень, клуб в Академии художеств в Ленингра¬де (бывшая церковь). Поздний вечер, скудное освещение, на сцене три челове¬ка. Двое сидят в глубине, третий мечется по сцене и с необыкновенной страстностью и убежденностью, разгоряченный (а в клубе уже холодно и все сидят в пальто), с растрепанной шевелюрой чи¬тает о Филонове, о его искусстве, его методе работы и обучения. Это была ру¬копись, сочиненная самим орато-ром. Прочтя страницу, он эффектно бросал ее в воздух и начинал следующую. Листки летали, кружились и медленно опуска¬лись на, сцену. Зал был заполнен до отказа, и в нем царила мер-твая тишина. Студенты, осо¬бенно первых курсов, съехавшиеся из разных городов и весей, слушали затаив дыхание. В Академии художеств это был последний всплеск демократии и гласности. А выступал, если я не ошибаюсь за давностью события, студент-живописец Дом-бровский.
Суровые военные годы для него оказа¬лись трагическими. Уходя на фронт в на¬родное ополчение вместе со своим дру¬гом, тоже живописцем, одесситом Костей Веремеенко, они поклялись друг другу, что если один из них окажется смертель¬но раненным, другой обязан пристрелить раненого чтобы сократить непомерные муки. У Кости на животе взорвалась гра¬ната. Домбровский выполнил свою клят¬ву. После войны он продолжал учебу, но это был уже другой человек: задумчивый, неразговорчивый, замкнутый. Вско¬ре он уехал в Крым на рас-копки антич¬ности Под руководством Павла Николае¬вича Шульца, вернувшегося с фронта с отмороженными пальцами обеих рук, и навсегда остался там, в Крыму, став исто¬риком. Кро-ме студенческих, живописных работ его я больше никогда не видел.
На всех факультетах, Академии худо¬жеств в предвоенные (.годы были такие сильные лю-ди. Вскормленные незамутнен¬ной свободой, гордые в своих суждениях и действиях. Это бы-ли личности, ориги¬нальные, творческие мыслители, не умев¬шие кривить душой и прятаться за чужие спины. Уйдя в народное ополчение в 1941 году, почти все они, прямодушные, по-гибли в первые месяцы сражений на ленинградских фронтах.
В предвоенных и послевоенных программах Академии художеств даже для искусствовед-ческого факультета Филонов не упоминался. Он "был забыт и вычеркнут из жизни несколь-ких поколений.
Однако после войны, а точнее, в 50-е и 60-е годы, его имя и искусство стали привлекать все большее внимание и интерес. Это объясняется и тем, что все наследие художника, пере-данное в 1942 году на временное хранение в Русский музей его сестрой Евдокией Николаев-ной Глебовой, было относительно доступно, для знатоков и любителей искусства. В начале 50-х годов Глебова забрала картины Филонова и держала их у себя на квартире. Однако в 1960 году вновь передала их в Русский музей, где, они, и хранились. А в 1977 году Евдокия Николаевна передала в дар Русскому музею 300 работ.
Когда вещи находились на временном хранении в Русском музее, Евдокия Ни¬колаевна брала к себе домой то одни, то другие картины то для показа кому-то, то для продажи, то для фотографирова¬ния, то для дара другим, музеям, в том числе и Третьяковской галерее.
Евдокия Николаевна давала частные уроки вокала и конечно бедствовала. Я бывал у нее на квартире несколько раз, преследуя две цели приобрести для Русского музея произведения Филонова и оказать ей материальную помощь. Купить картины Филонова обычным пу¬тем музею в те годы было невозможно, министерские чиновники, обнаружив фа¬милию Филонова в протоколах, закупоч¬ной комиссии, наверняка пришли бы к убеждению, что мне уже надое-ло быть директором Русского музея.
Я предложил Евдокии Николаевне за числить ее на какую-либо незаметную должность в музее, чтобы она регулярно могла, получать какую-то сумму денег — мизерную, как вы по-нимаете, судя по уровню оплаты труда музейных работников. Когда накопится сумма, соот-ветствующая, по ее мнению, стоимости намеченной картины, эту картину она передаст в дар Русскому музею. Я полагал, что та¬ким способом можно будет приобретать хотя бы по одной картине ежегодно. Евдокия Николаевна сначала согласилась, однако, подумав, отказалась от этой затеи. Конечно, эта маленькая «хитрость» с точки зрения этических критериев, мягко говоря, не была мною продумана. Я об этом вспоминаю просто как о поиске безопасного спо-соба приобретений произведений Филонова.
В 1966 году Ян Крыж издает в Праге монографию о Филонове. Наряду с произведениями, находившимися на временном хранении в Русском музее и кото¬рые брала к себе домой Евдо-кия Николаевна (теперь уже ясно — для фотографирования), в монографии были воспроизве-дены и картины, принадлежащие Русскому музею.
Вашего покорного слугу призвали в Ленинградский, обком КПСС на ковер к т. Александ-рову Г. А. (впоследствии был заместителем министра культуры РСФСР), и началась выволоч-ка! Кто разрешил вос¬производить крамолу? В результате час¬тых вызовов в обком у меня вы-работался «условный рефлекс», и я всегда знал или по крайней мере предчувствовал, по како-му поводу меня призывают. На этот раз я знал. Внимательно, перелистав мо¬нографию, уви-дел, что. вещи Русского Му¬зея напечатаны в ней плохо, они не чет¬ки по контурам и бледны по краскам. Ме¬ня вдруг осенила мысль: да ведь они пе¬чатались со слайдов, снятых с репро-дук¬ций, а не с оригиналов. А вещи, принадлежавшие Евдокии Николаевне, напечата¬ны хоро-шо — ярко и четко по контурам. Значит, они печатались со слайдов, сня¬тых с оригиналов. Прихватив с собой мо¬нографию, я и явился в отдел культуры обкома. И уже на первый окрик («кто разрешил?!») изложил свою «теорию», показывая картинки. Аргументы оказались убе-дительными, и начальство поверило, что я говорю сущую правду. Эта «ма¬ленькая хитрость» сработала, хотя я до сих пор не знаю, существуют ли или существовали ли репродукции с картин Филонова, которые послужили бы «оригиналом» для монографии Яна Крыжа.
А вот в следующем, 1967 году, персональная выставка Филонова в Новосибирске оберну-лась для директора музея Академгородка... потерей кресла.
И все-таки... И все-таки неймется! Пражская монография Филонова навела меня на мысль организовать большую вы¬ставку его работ и показать ее в Пари¬же, Лондоне, Амстердаме, Брюсселе, Ри¬ме, в других городах Европы и закончить это годовое турне в Америке — Ва-шинг¬тоне и Нью-Йорке. Выставка должна со¬провождаться репродукциями, открытка¬ми, дру-гими изданиями. Доходы в валюте от выставки и продажи печатных изда¬ний поступают в СССР. Задумывалось так: каждый город знает, что в Америке будут проданы на аукционе то-лько две картины Филонова, но какие менно никто не знает. Это вызывает рекламу, ажиотаж, суждения в печати. Для Запада Филонов — открытие века. Короче — пол¬ный триумф и ху-дожниками Русского музея. Везде все расходы по страховке, транспортировке и другие берет на себя «проклятая буржуазия».
Но… Как это осуществить, куда податься? Я беру монографию Яна Крыжа и еду в Мос-кву, к доктору Арманду Хаммеру. Он тогда увлекался показом выставок из Эрмитажа и Рус-ского музея. В гостинице «Националь» в его номере мы садимся на диван рядом, плотно друг к другу, как отъявленные шпионы и заговорщики. Хаммер включает на полную катушку те-леви¬зор машет рукой — теперь говорите. Я подробно излагаю ему идею выставки и, показы-вая картинки, монографии, расска¬зываю о мировом значении искусства Фи¬лонова. Сенсация — и Хаммер в центре событий! Немного помолчав, он спраши¬вает: кто разрешит? Демичев? Я, не про¬износя фамилии, отрицательно качаю го¬ловой, «Брежнев?» — спрашивает он. Я ут-вердительно киваю, опять же не произ¬нося фамилии. Кардинальный вопрос был решен. Пос-ле этого пошла более спокой¬ная беседа о предстоящей выставке, о творчестве Филонова, о финансовых со¬ображениях. Я оставил ему монографию и уже в новом здании гостиницы мы по¬обедали, заплатив по трешке за «швед¬ский стол»;
Увы, эта «большая хитрость» так и осталась неосуществленной. Как ни заманчива слава, а бизнес должен быть гарантирован!
Вероятно, где-то в конце 1960-х годов я познакомился с Г. Д. Костаки — круп¬нейшим кол-лекционером русского и совет¬ского авангарда. Он в это время покупал у Евдокии Николаев-ны несколько картин Филонова, одна из которых — «Головы (Симфония Шостаковича)» 1927 года на¬ходится сейчас в Третьяковской галерее.
Когда я бывал у него на квартире в Москве и просматривал удивительную по обширности и подбору качественных произведений коллекцию, он постоянно жаловался на то, что не раз-решают пока¬зывать ее на выставках, и выражал жела¬ние подарить Русскому музею некото-рые вещи с условием, что они будут выстав¬лены в постоянной экспозиции. Выстав¬лять «не-сколько» и наверняка после это¬го быть изгнанным из Русского музея не было резона. И я пре-дложил ему пода¬рить всю коллекцию музею, перевезти ее в Ленинград, подготовить и напе-чатать каталог, развернуть выставку и все это проделать в строжайшей тайне. Когда все будет готово, открыть выставку и дать рекламу. Я понимал, что если бы это осу¬ществилось, меня на второй же день вы¬гнали бы из Русского музея. Но дело было бы сделано: богатейшая коллек-ция рус¬ского и советского авангарда Костаки, соединенная с еще более богатой коллек¬цией картин Русского музея, сделала бы музей мировым центром по изучению и пропаганде этого уникального историче¬ского и художественного явления, поро¬жденного предреволюционным и револю¬ционным временем, временем, от которого мы ведем теперь отсчет нового разви¬тия человечества.
Костаки не отрицал такой возможности, хотя наивность этого (как и предыдущего) плана очевидна, особенно теперь. Ну а что было делать? Хоть помечтать мас¬штабно и с удоволь-ствием, — и то уже казалось каким-то движением вперед!
Я рассказал об этих нескольких эпизо¬дах для того, чтобы показать, как трудно и с какими невероятными зигзагами про¬бивалась дорога к настоящей выставке, к настоящему торжеству и признанию ху¬дожника.
Еще маленькая деталь. Филонов, как известно, не продавал своих картин, они все должны были принадлежать Советскому государству и образовать музей аналитического искусства — отдельный музей Филонова. Но все же каким-то об¬разом за границей оказалось несколько его произведений. Я не изучал специ¬ально этого вопроса. Думаю, что главны¬ми «виновниками» здесь являются част¬ные владельцы и коллекционеры.
Однако, как известно, всегда находятся и любители поживиться за чужой счет. Они окру-жали и доверчивую Евдокию Николаевну. В последний период ее жизни к ней втерлась в до-верие искусствовед Гудкина и под видом написания моногра¬фии о Филонове выкрала у нее 5 — 7 ве¬щей, которые ушли за границу. Состоя¬лось расследование, Гудкина была осуж¬дена, теперь, наверное, уже давно на свободе, а вещи утрачены навсегда, Неко¬торые из них теперь находятся в собра¬нии Людвига (ФРГ).
Второй случай более странный. В Па¬риже, в центре Помпиду, оказалось во¬семь рисунков Филонова. Они опублико¬ваны во французском журнале «Cahier d'Arl». 1983 год. Такие же точно рисун¬ки, с небольшими отклонениями, находят¬ся и в Русском музее. Для творческого метода Филонова копии своих работ ис¬ключены. Значит, где-то оригиналы, а где-то поддел-ки. Западное искусствоведение, очень и очень неплохо знает творчество наших художников авангарда, теперь уже и творчество Филонова. И приобретение сразу восьми подделок в цен-тре Помпиду вряд ли возможно. Значит, у нас в Рус¬ском музее кто-то имел допуск к произве-дениям Филонова при директоре Ново¬жиловой, которая лично контролировала посещение фондов, сделал копии и подменил ими оригиналы. Меня удивляет, что этот случай стараются замять всеми спо¬собами. А между тем при современных технических возможностях экспер-тиза мо¬жет точно ответить на все вопросы.
И последнее. Открытие выставки про¬изведений Филонова — такое важное со¬бытие не то-лько в истории нашего, отечественного искусства, но и мирового. Однако на открытии я не встретил ни одного представителя органов, руководя¬щих культурой. Странно. Гораздо менее заметные вернисажи собирают целый ру¬ководящий иконостас...
Литературная газета, 9 ноября 1988 г., № 45 (5215)
Почему за одну картину кисти Пикассо ценители выкладывают $104 млн, тогда как другие работы этого же мастера можно купить "всего лишь" за несколько тысяч? Журналист BusinessWeek пытается разобраться в хитросплетениях современного рынка предметов искусства.
5 мая картина Пабло Пикассо "Мальчик с трубой", написанная мастером в 1905 году, когда ему было всего 24 года, ушла с аукциона за $104 млн. Новый владелец картины пожелал остаться неизвестным. В ходе аукциона он делал ставки с помощью председателя северо-американского филиала Sotheby's Уоррена Пи. Вейтмана-Младшего, давая ему указания по сотовому телефону.
Хотя аукционный дом Sotheby's по своему обыкновению не стал разглашать имя покупателя, слухи о его личности поползли по рынку сразу после завершения сделки. В частности, специалисты называют имена со-основателя компании Microsoft Пола Алена, нью-йоркского финансиста Генри Крависа и владельца лас-вегасских казино Стива Вина. На самом деле, в этой истории привлекают внимание не только и не столько имя покупателя картины, но и целый ряд других вопросов, на которые отвечает корреспондент BusinessWeek Тэйен Питерсон.
- Почему цена картины оказалась настолько высокой?
- Оценка предметов искусства всегда сопровождается массой вопросов. Одним из факторов, способных резко повысить цен той или иной картины, является ее редкость. "Мальчик с трубой" считается одной из трех самых важных картин т.н. "Розового"» периода творчества Пикассо, при этом две другие работы уже находятся в собраниях музеев, т.е. они недоступны для частных коллекционеров. Ранее эта картина находилась в коллекции Джона Хея и Бетси Уитни, которых причисляют к самым знаменитым коллекционерам прошлого века.
Кроме того, большое значение также имеет и внешний вид картины. Не секрет, что многие знаменитые работы художников прошлого в наши дни вынуждены коротать свой век в гостиных и кабинетах богатых коллекционеров. По мнению автора журнала ARTnews Келли Девины Томас, "Мальчик с трубой" приковывает к себе взгляд своими яркими цветами, а также "…скрытыми в картине лиричностью и поэзией".
Многие историки искусства считают более значимыми те картины Пикассо, которые были написаны в манере кубизма. Однако, такие полотна гораздо сложнее воспринимаются теми, кто не слишком разбирается в искусстве, например, приглашенными в дом гостями. По словам владельца отеля в Майами Дональда Рубелла, являющегося крупным коллекционером современного искусства, "…богатым людям обычно нравятся такие картины, которые кажутся им милыми".
- Может ли статься так, что "Мальчик с трубой" был приобретен неким музеем?
- Это маловероятно. Как правило, гранты и пожертвования музеям выделяются на строго определенные цели. Что же касается тех средств, расходование которых не регламентировано, то их объемы у большинства музеев весьма ограниченны. Таким образом, в течение года руководство обычного музея может потратить по своей воле лишь малую толику тех денег, которые пришлось заплатить за "Мальчика".
Можно предположить, что единственный музей, который мог бы себе позволить сделать подобную покупку за свой счет – это Музей Гетти в Лос-Анджелесе. В любом случае, можно надеяться на то, что, рано или поздно, "Мальчик с трубой" все равно будет пожертвован тому или иному музею, который выставит его на всеобщее обозрение.
- Увидим ли мы в будущем новые картины, предлагаемые к продаже по цене в $100 млн и больше?
- Скорее всего, да. Представители наиболее обеспеченных слоев американского общества в настоящее время сконцентрировали в своих руках гигантские состояния. Именно эти люди в настоящее время выступают главными покупателями предметов искусства. Надо сказать, что с каждым годом у них остается все меньше и меньше возможности выбирать: число произведений импрессионистов и других мастеров современного искусства, находящихся в частных руках, постоянно сокращается.
"Скорее всего, в ближайшие годы число сделок такого масштаба должно будет возрасти", – считает нью-йоркский галерейщик Рональд Фельдман. "Все дело в спросе и предложении". "Эти работы постепенно исчезают с рынка, и все об этом знают", – добавляет он.
Можно предположить, что среди тех художников, цены на работы которых первыми перешагнут через отметку в $100 млн, будут Ван Гог и Пикассо.
- Что произошло с картиной "Портрет доктора Гоша"?
- До 5 мая текущего года самой высокой ценой, уплаченной за картину на аукционе, были $82.5 млн, выложенные за написанный Винсентом Ван Гогом "Портрет доктора Гоша". Ван Гог написал эту картину незадолго до своего самоубийства. В 1990 году портрет был приобретен финансистом из Японии, немедленно спрятавшим ее в банковский сейф.
По рынку ходят слухи о том, что в середине 1990-х гг. эта картина была вновь выставлена на продажу, но ни один из известных мне специалистов не осведомлен о том, что она действительно перешла к новому владельцу. Тем не менее, например, директор нью-йоркской Галереи Acquavella и бывший работник аукциона Christie's Майкл Файндли убежден в том, что в настоящее время "Портрет доктора Гоша" уже не в Японии.
- Кто может купить работу Пикассо?
- На самом деле, это доступно практически любому человеку. Да, только достаточно богатые люди могут позволить себе купить картину, скульптуру или рисунок этого мастера. Однако, в прошлом году на аукционах были проданы сотни литографий и офортов его работы, цена на которые составляла в пределах от $1 000 до $10 000. Безусловно, речь идет не об уникальных работах – они выпускались сериями в несколько десятков экземпляров. Кроме того, большинство таких гравюр даже не несут автографа самого Пикассо – за его роспись вам придется выложить дополнительные деньги.
- Что вообще означает имя Пикассо сегодня?
- Ни один из ныне живущих художников не обладает одновременно гением, славой и трудоспособностью Пикассо. Кроме того, он прожил очень длинную жизнь, умерев в 1973 году в возрасте 92 лет, и оставил после себя множество работ. Для сравнения, другой гуру современного искусства, Энди Уорхол, умер в 1987 году в возрасте всего лишь 58 лет.
- Кого из ныне живущих художников вы можете отметить?
- Келли Девина Томас недавно опубликовала список "10 самых дорогих ныне живущих художников". Могу предположить, что половина из представленных в нем людей известна только наиболее увлеченным знатокам современного искусства. Тем не менее, их картины уходят за суммы в $5 млн и более. В списке представлены исключительно мужчины, причем лишь двое из них живут вне пределов США.
Приведу их имена: Люсиан Фрёд, 81 год, Великобритания, Герхард Рихтер, 72 года, Германия, Джаспер Джонс, 73 года, Джефф Кунс, 48 лет, Брайс Марден, 65 лет, Брюс Нойман, 62 года, Роберт Раушенберг, 78 лет, Ричард Серра, 63 года, Фрэнк Стела, 68 лет и Сай Твомбли, 76 лет.
По мнению Дональда Рубелла, наиболее перспективным художником из списка в плане вложения средств является Роберт Раушенберг. Рубелл считает, что цены на картины, написанные этим мастером в 1970-е-1980-е гг., сегодня существенно занижены, иногда составляя всего лишь $20 000. "Хотя за такие деньги вы получите не самый лучший образец творчества Раушенберга, это все равно будет хорошая картина", – говорит Рубелл.
- Кто из ныне здравствующих художников может претендовать на то, чтобы в будущем сравняться с Пикассо, по крайней мере, в цене своих картин?
- Пикассо вошел в историю не только благодаря своим работам, но и благодаря своей яркой и неоднозначной личности, получившей широкую известность во всем мире. Именно его слава в немалой степени обусловила высокую популярность картин Пикассо, и, соответственно, их высокие цены.
По мнению коллекционеров, некоторые из ныне живущих артистов также обладают рядом ярких личностных качеств, позволяющих сравнить их с Пикассо. Например, в этой связи они отмечают Кунса, женатого на итальянской порноактрисе и получившего известность благодаря гигантским статуям щенков, сделанным из цветов, и керамической статуе Майкла Джексона в обнимку с шимпанзе.
38-летний британский артист Дэмиэн Хирст в свое время произвел огромный резонанс своими работами, представлявшими законсервированные в формалине туши акул и овец. Вместе с тем, работы этих и других подобных мастеров слишком дороги для большинства из нас – за них просят десятки тысяч долларов и более. Дело в том, что обеспеченные коллекционеры, заметившие многообещающих американских или европейских художников, предпочитают сознательно играть на повышение цен на их работы.
- Какие вообще работы вы бы посоветовали покупать сегодня?
- Уже упоминавшийся мною Майкл Файндли покупает для своей собственной коллекции картины художников-радикалов азиатского происхождения, эмигрировавших в США. Он считает, что рост значения КНР как одной из ведущих экономических сил в мире, а также усиления взаимодействия между Востоком и Западом в предстоящие годы должны будут привести к тому, что эти картины станут пользоваться большой популярностью на рынке.
"Покупай то, что тебе нравится, и не думай о том, сколько это стоит", – любит говорить он.
Источник Деловая Неделя номер 19 (222) от 18.05.2004

Просмотров: 805 Комментариев: 0 Перейти к комментариям
5 мая картина Пабло Пикассо "Мальчик с трубой", написанная мастером в 1905 году, когда ему было всего 24 года, ушла с аукциона за $104 млн. Новый владелец картины пожелал остаться неизвестным. В ходе аукциона он делал ставки с помощью председателя северо-американского филиала Sotheby's Уоррена Пи. Вейтмана-Младшего, давая ему указания по сотовому телефону.
Хотя аукционный дом Sotheby's по своему обыкновению не стал разглашать имя покупателя, слухи о его личности поползли по рынку сразу после завершения сделки. В частности, специалисты называют имена со-основателя компании Microsoft Пола Алена, нью-йоркского финансиста Генри Крависа и владельца лас-вегасских казино Стива Вина. На самом деле, в этой истории привлекают внимание не только и не столько имя покупателя картины, но и целый ряд других вопросов, на которые отвечает корреспондент BusinessWeek Тэйен Питерсон.
- Почему цена картины оказалась настолько высокой?
- Оценка предметов искусства всегда сопровождается массой вопросов. Одним из факторов, способных резко повысить цен той или иной картины, является ее редкость. "Мальчик с трубой" считается одной из трех самых важных картин т.н. "Розового"» периода творчества Пикассо, при этом две другие работы уже находятся в собраниях музеев, т.е. они недоступны для частных коллекционеров. Ранее эта картина находилась в коллекции Джона Хея и Бетси Уитни, которых причисляют к самым знаменитым коллекционерам прошлого века.
Кроме того, большое значение также имеет и внешний вид картины. Не секрет, что многие знаменитые работы художников прошлого в наши дни вынуждены коротать свой век в гостиных и кабинетах богатых коллекционеров. По мнению автора журнала ARTnews Келли Девины Томас, "Мальчик с трубой" приковывает к себе взгляд своими яркими цветами, а также "…скрытыми в картине лиричностью и поэзией".
Многие историки искусства считают более значимыми те картины Пикассо, которые были написаны в манере кубизма. Однако, такие полотна гораздо сложнее воспринимаются теми, кто не слишком разбирается в искусстве, например, приглашенными в дом гостями. По словам владельца отеля в Майами Дональда Рубелла, являющегося крупным коллекционером современного искусства, "…богатым людям обычно нравятся такие картины, которые кажутся им милыми".
- Может ли статься так, что "Мальчик с трубой" был приобретен неким музеем?
- Это маловероятно. Как правило, гранты и пожертвования музеям выделяются на строго определенные цели. Что же касается тех средств, расходование которых не регламентировано, то их объемы у большинства музеев весьма ограниченны. Таким образом, в течение года руководство обычного музея может потратить по своей воле лишь малую толику тех денег, которые пришлось заплатить за "Мальчика".
Можно предположить, что единственный музей, который мог бы себе позволить сделать подобную покупку за свой счет – это Музей Гетти в Лос-Анджелесе. В любом случае, можно надеяться на то, что, рано или поздно, "Мальчик с трубой" все равно будет пожертвован тому или иному музею, который выставит его на всеобщее обозрение.
- Увидим ли мы в будущем новые картины, предлагаемые к продаже по цене в $100 млн и больше?
- Скорее всего, да. Представители наиболее обеспеченных слоев американского общества в настоящее время сконцентрировали в своих руках гигантские состояния. Именно эти люди в настоящее время выступают главными покупателями предметов искусства. Надо сказать, что с каждым годом у них остается все меньше и меньше возможности выбирать: число произведений импрессионистов и других мастеров современного искусства, находящихся в частных руках, постоянно сокращается.
"Скорее всего, в ближайшие годы число сделок такого масштаба должно будет возрасти", – считает нью-йоркский галерейщик Рональд Фельдман. "Все дело в спросе и предложении". "Эти работы постепенно исчезают с рынка, и все об этом знают", – добавляет он.
Можно предположить, что среди тех художников, цены на работы которых первыми перешагнут через отметку в $100 млн, будут Ван Гог и Пикассо.
- Что произошло с картиной "Портрет доктора Гоша"?
- До 5 мая текущего года самой высокой ценой, уплаченной за картину на аукционе, были $82.5 млн, выложенные за написанный Винсентом Ван Гогом "Портрет доктора Гоша". Ван Гог написал эту картину незадолго до своего самоубийства. В 1990 году портрет был приобретен финансистом из Японии, немедленно спрятавшим ее в банковский сейф.
По рынку ходят слухи о том, что в середине 1990-х гг. эта картина была вновь выставлена на продажу, но ни один из известных мне специалистов не осведомлен о том, что она действительно перешла к новому владельцу. Тем не менее, например, директор нью-йоркской Галереи Acquavella и бывший работник аукциона Christie's Майкл Файндли убежден в том, что в настоящее время "Портрет доктора Гоша" уже не в Японии.
- Кто может купить работу Пикассо?
- На самом деле, это доступно практически любому человеку. Да, только достаточно богатые люди могут позволить себе купить картину, скульптуру или рисунок этого мастера. Однако, в прошлом году на аукционах были проданы сотни литографий и офортов его работы, цена на которые составляла в пределах от $1 000 до $10 000. Безусловно, речь идет не об уникальных работах – они выпускались сериями в несколько десятков экземпляров. Кроме того, большинство таких гравюр даже не несут автографа самого Пикассо – за его роспись вам придется выложить дополнительные деньги.
- Что вообще означает имя Пикассо сегодня?
- Ни один из ныне живущих художников не обладает одновременно гением, славой и трудоспособностью Пикассо. Кроме того, он прожил очень длинную жизнь, умерев в 1973 году в возрасте 92 лет, и оставил после себя множество работ. Для сравнения, другой гуру современного искусства, Энди Уорхол, умер в 1987 году в возрасте всего лишь 58 лет.
- Кого из ныне живущих художников вы можете отметить?
- Келли Девина Томас недавно опубликовала список "10 самых дорогих ныне живущих художников". Могу предположить, что половина из представленных в нем людей известна только наиболее увлеченным знатокам современного искусства. Тем не менее, их картины уходят за суммы в $5 млн и более. В списке представлены исключительно мужчины, причем лишь двое из них живут вне пределов США.
Приведу их имена: Люсиан Фрёд, 81 год, Великобритания, Герхард Рихтер, 72 года, Германия, Джаспер Джонс, 73 года, Джефф Кунс, 48 лет, Брайс Марден, 65 лет, Брюс Нойман, 62 года, Роберт Раушенберг, 78 лет, Ричард Серра, 63 года, Фрэнк Стела, 68 лет и Сай Твомбли, 76 лет.
По мнению Дональда Рубелла, наиболее перспективным художником из списка в плане вложения средств является Роберт Раушенберг. Рубелл считает, что цены на картины, написанные этим мастером в 1970-е-1980-е гг., сегодня существенно занижены, иногда составляя всего лишь $20 000. "Хотя за такие деньги вы получите не самый лучший образец творчества Раушенберга, это все равно будет хорошая картина", – говорит Рубелл.
- Кто из ныне здравствующих художников может претендовать на то, чтобы в будущем сравняться с Пикассо, по крайней мере, в цене своих картин?
- Пикассо вошел в историю не только благодаря своим работам, но и благодаря своей яркой и неоднозначной личности, получившей широкую известность во всем мире. Именно его слава в немалой степени обусловила высокую популярность картин Пикассо, и, соответственно, их высокие цены.
По мнению коллекционеров, некоторые из ныне живущих артистов также обладают рядом ярких личностных качеств, позволяющих сравнить их с Пикассо. Например, в этой связи они отмечают Кунса, женатого на итальянской порноактрисе и получившего известность благодаря гигантским статуям щенков, сделанным из цветов, и керамической статуе Майкла Джексона в обнимку с шимпанзе.
38-летний британский артист Дэмиэн Хирст в свое время произвел огромный резонанс своими работами, представлявшими законсервированные в формалине туши акул и овец. Вместе с тем, работы этих и других подобных мастеров слишком дороги для большинства из нас – за них просят десятки тысяч долларов и более. Дело в том, что обеспеченные коллекционеры, заметившие многообещающих американских или европейских художников, предпочитают сознательно играть на повышение цен на их работы.
- Какие вообще работы вы бы посоветовали покупать сегодня?
- Уже упоминавшийся мною Майкл Файндли покупает для своей собственной коллекции картины художников-радикалов азиатского происхождения, эмигрировавших в США. Он считает, что рост значения КНР как одной из ведущих экономических сил в мире, а также усиления взаимодействия между Востоком и Западом в предстоящие годы должны будут привести к тому, что эти картины станут пользоваться большой популярностью на рынке.
"Покупай то, что тебе нравится, и не думай о том, сколько это стоит", – любит говорить он.
Источник Деловая Неделя номер 19 (222) от 18.05.2004

Здесь представлен очерк о Пикассо из серии очерков под общим названием Живопись - мое ремесло.
В дальнейшем представлю другие очерки. источник: журнал Иностранная литература №4, год неизвестен.
Приятного рочтения.
Ремесло художника
РЕНАТО ГУТТУЗО
Через несколько месяцев Пи¬кассо исполнится 84 года, но он не «старый мастер», не па-мятник, не символ славы, не музей, а действую¬щий художник, словно ему 35 - 40 лет, он в курсе всех актуальных проблем, и вместо того, чтобы спокойно проводить свою славную старость, живя вдали от Па¬рижа, (как это принято), не читая «супер-критических» книг, ста-тей, журналов, не посещая выставок, не желая нечего знать об «информальном», «новой фи-гуративности», «оп» и «поп», он живет как молодой и активный, постоянно перемещающий-ся между Сен-Жермен-де-Пре и Пятой авеню, между Касселем и Венецией.
Объяснение подобного «случая» лежит, как всегда» в том подходе к реальности, который диктуется особенностями его на¬туры. Он является пока единственным среди всех великих художников своего поко¬ления, который не останавливался. Доста¬точно обратиться на мгно-вение мыслью к представителям его поколения, к его совре¬менникам.
Достаточно подумать о творчестве худож¬ников, даже величайших, о том, что в основном их творчество завершилось к кон¬цу 20-х годов. О Браке, Матиссе, Кандин¬ском, Мондриане, Руо, Шагале.
Я хочу сказать, что на протяжении их творческого пути эти художники создали несколько шедевров, «рафинировали», «углубляли», выработали новые, порой чу¬десные «варианты», двигали вперед «самих себя». Но то, что сделал Пикассо, это со¬всем другое — постоянное введение новых изобразительных идей не для себя, но для других; это и было качественным ростом общего опыта современного искусства. И он всегда автоматически — при непрекра-щающейся смене опытов и поколений — оставался «пионером».
Сказанное мною ничуть не умаляет ни заслуг, ни славы всех названных выше художни-ков. Это только указывает на иск¬лючительность Пикассо в сравнении с его великими совре-менниками. В каком-то смысле, как у naїf, в его живописи нет про¬гресса.
Я отдаю себе отчет в том, что тот, кто следует моде, заметить этого не может. Но со мно-гих импровизированных трибун (со¬временное искусство было открыто у нас, как известно, около 1947 года) раздаются голоса, что Пикассо «кончился» уже где-то в 30—35-м годах, голоса, которые нет нуж¬ды даже опровергать. Достаточно «Герники» и всего творчества Пи-кассо год за го¬дом — «Резни в Корее», новых парафраз Курбе, Делакруа, Пуссена, Кранаха, порт¬ретов 1956—1957 годов, вплоть до ню, и «голов» 1964—1965 гг. (Я не упоминал шедев-ров, а лишь «шаги» вперед, новые при¬знаки, новые идеи в живописи.) Известно, что Пикассо (он сказал это сам), начиная с самых первых своих попыток, никогда не был «эксперимента-тором». Слияние экспериментализма с авангардизмом — это явле¬ние совсем недавнее, и свя-зано оно с утратой веры во что бы то ни было, со смутным предвидением атомной катастро-фы, с убежденностью в том, что все недол¬говечно, с принятием фатальной неизбеж¬ности превращения в товар даже «продук¬тов культуры». Все это вместе взятое ста¬новится — от-части неосознанно — оправда¬нием стремления приняться за дело и под¬готовиться к воспри-ятию следующих одно за другим «предложений» по мере того, как они появляются в игре информации, потре¬бительства и обмена.
Напротив, прежние «авангарды» были все явлениями утверждающими. Пикассо любит го-ворить, почти сам удивляясь это¬му и почти с огорчением, что в детстве он никогда не рисо-вал и не писал «как ребе¬нок».
Голубая и розовая живопись, пронегритянские и первые кубистические картины — все это законченные, совершенные произведения, утверждающие определенную идею. Это не «гипотезы», и не «догадки», а ни в коем случае не «вопросы». Я всегда думал, что если прав-да то, что художник, как и каждый человек, вопрошает мир, то правда также и то, что он сам же пытается и дать ответ на то, о чем спрашивалось. А это все равно что сказать: «...на то, что у него спросили».
Пикассо вопрошает, исследует, фиксиру¬ет, отвечает. Это и есть способ действия тех, кто старается сделать «зримым бытие» (то есть то, что существует).
Речь не идет о том, что подобный ответ является результатом мыслительного про¬цесса из серии последовательных и осоз¬нанных фаз или этапов вплоть до сознатель¬ного вывода. Это означает, что картина является объективным дополнением к по¬знанной реальности, углубле-нием ее позна¬ния и в этом качестве и ответом. «Можно вполне сказать, что в творческом процес¬се доли сознательного и бессознательного не отличаются друг от друга, в точности так же как течение реки при дневном све¬те не отличается от течения той же реки в темноте ночи» (Рудольф Арнхейм 43. «Герника»).
(Точнее было бы сказать, что художник и спрашивает, и отвечает одновременно.)
После последней войны в изобразитель¬ном искусстве не было больше скандалов. Оппози-ция «филистеров» прекратила свое существование словно по мановению вол¬шебной палоч-ки: дирекции музеев, главы государств, короли и королевы, универси¬теты, главные редакции и третьи полосы самых консервативных газет, издательства не оказывают больше никакого сопротивле¬ния. Ничто более не дает повода к сканда¬лам, кроме некоторых фактов, которые в конечном счете концентрируются вокруг одного человека: Пикассо. И вокруг одних поисков — реализма, той красной muleta, которая приводит в ярость конформистско¬го быка. Но са-мым примечательным фак¬том является то, что Пикассо скандализи¬рует не филистеров, кото-рые больше не существуют (либо так перемешались с не¬филистерами, что аннулировали се-бя как самостоятельную категорию), а представи¬телей «культуры». Рынок, разумеется, не спорит о Пикассо: его картины продаются так же быстро, как бутерброды при входе на ста-дион. Книги о нем выходят ежегод¬но десятками и поглощаются мгновенно и на самых раз-ных уровнях — от коллекцио¬неров номерных изданий до приемных дан¬тистов. Именно элиту Пикассо удается ка¬ким-то образом оскорбить, потому что еще и сегодня на пороге своего восьмидесяти-четырехлетия он с присущей ему реалисти¬ческой и жизненной силой восстает против всех нагромождающихся друг на друга условностей.
Это противоречие «условностям» (и отри¬цательная реакция элиты) возникает по той при-
чине, что Пикассо, никогда не находясь в бездействии, спорит не с «идеями време¬ни», не с различными течениями, но с са¬мим временем, с самой действительностью, и с самим позна-нием. Чтобы реализовать это свое отношение к «миропорядку», Пи¬кассо никогда не испыты-вал необходимости ни в чем другом, кроме вещей зримых — предметов, природы, живот-ных, людей. Никакой метафизики в сюжетах, никакого мистицизма, никакого «бегства от действи¬тельности», ни малейшего остранения: газо¬вая плита, лангуста, ню и т. д. служат до¬статочным материалом для долгой работы, когда попадают в руки такого человека, как Пи-кассо.
Чтобы продемонстрировать эти беглые наблюдения, нам нужно будет углубиться в проч-тение тех картин, которые перекли¬каются между собой на протяжении деся¬тилетий, даже по-лувека, в прочтение их форм и показать по ним, как обозначение, например, глаза или руки, поскольку оно лишь обозначение, никогда не повторяется, но кажется впервые интуитивно угаданным в каждой из этих картин.
Постоянная напряженность взаимоотно¬шений между тем, что кажется, и между тем, что есть в действительности, при кото¬рой то, что кажется, никогда не отвергну¬то, но только про-анализировано, вскрыто, разобрано таким образом, что всякий раз проявляется во все более интегральном аспекте,
У Пикассо различные способы понима¬ния, видения и чувствования диалектически к авто-матически дополняют друг друга. И поскольку его деятельность — это посто¬янное стремле-ние к пониманию, а не повто¬рение уже найденного, то она является и творческой, и актив-ной.
Пикассо в Мужене с 4 до 12 марта.
Во второй половине дня 5 числа мы под¬нялись в его большую мастерскую, чтобы посмо-треть написанные им недавно кар¬тины.
Вдоль стен тесно стояло более двухсот картин, датированных с января 1964 года по 3 марта 1965 года.
Пикассо начал показывать полотна, пока нам не удалось убедить его сесть, и мы
___________
43 Искусствовед и теоретик искусства США, занимающийся вопросами психоло¬гии зрения и другими проблемами искусст¬ва на стыке с различными науками.
продолжали уже сами поворачивать их лицевой стороной, разглядывать, отно¬сить в другой конец зала, и так вплоть до последней капли солнца, а потом уж и при зажжен-ном свете.
Я не предполагаю в этих заметках углуб¬ляться в критический анализ, хотя у меня и было к тому страстное искушение. Хочу только рассказать, что было в тот вечер, и в следующий тоже, и еще в один, и четыре дня спустя, когда был с нами и наш друг Ман-цу.
О жестах, о шагах, о том, как передвига¬ли полотна, поворачивали их, подносили их к свету, о наших словах и репликах Пикассо, о зажженных сигаретах и о том, как Жаклин несколько раз фотографировала нас. О небе Мужена, менявшем свой цвет, в сторону Напуля, Канна, о картинах, которые Пикассо хотел нам показать в сол¬нечном прямо-угольнике, чтобы свет падал на них, чтоб потом вновь посмотреть на них при другом освещении; о том, как мы переставляли всю эту массу картин в на¬прасных поисках сво-бодного места у стен. О том, как мы смотрели сразу несколько картин на одну тему: портреты садовника с двухмесячным ребенком на руках (paternite 44, как их называет Пикассо) или пейзажи с горами, домами, небом, оливко¬выми деревьями, которые про-должались и за большими окнами мастерской.
«Видишь, я беру чуточку зелени и Je lui torde le сои, потом я должен про¬должать фиолетовым de 1'autre cote. Je fais comme car je ne veux faire qurun tableau, mais apres e'est toujours une tete d'homme (45) (или дерево или ню)».
У Пикассо любая вещь воспринята «бук¬вально» (отношение художника и модели буквально зрительное — непосредственное восприятие факта, который постоянно пов-торяется).
Можно было бы поспорить о том, каким образом могут сосуществовать у Пикассо две одинаково присущих ему позиции: от¬крытие предмета, увиденного таким, как он есть, и изученного, и всегдашнее превраще¬ние его в символ. Глаз — это «тот самый глаз», который был увиден Пикассо, охарак¬теризован им, открыт, индивидуализирован, сделан «похоже» и т. д., но в то же самое время — это только обозначение, символ, ко¬торый может быть повторен (как глаз в профиль у Джотто и т. д.), воплощение са¬мого свойства зрения.
Пока мы смотрели картины и передвига¬ли их, перевертывали и подносили их к све¬ту, поворачивали к стене, Пикассо говорил, предлагал посмотреть картину одну рядом с другой, поднимался с места, чтобы их переставить. «Если ты подойдешь поближе, то ничего не увидишь, кроме нескольких пятен, но чуть с более далекого расстояния это уже голова (или дерево, или ню), но если ты уже постиг эти цветовые пятна, тогда уви-дишь и дерево, и голову, и ню». Для, Пикассо показывать картины своим друзьям — все равно что самому себе. Он смотрит, изучает, продолжает работать. Вот сейчас пе-ред нами полотно длиной в 120 см, потрясающая живопись в серых тонах, в которой применена вновь компоновка и раз¬ложение объемов, напоминающая его кар¬тины пред-кубистического периода (назван¬ные негритянскими, хотя они скорее были не негритян-скими, а развитием мысли Се¬занна). Речь идет о лежащей обнаженной женщине, кото-рая играет с черным котен¬ком.
Пикассо любит говорить, что скульптура — это лучший комментарий или объясне¬ние живописи. Можно было бы сказать, что, делая голову с двумя профилями у этой обнаженной, Пикассо захотел сделать обратное: создать «комментарий» к своей скульптуре.
Внизу, в огромной мастерской-складе, где повсюду рассеяны скульптуры (Манцу
двигался среди них, словно в густом лесу в поисках грибов), находится большое число
разрезанных, смятых, засунутых один в другой шаблонов из листового железа (две го-
__________
44 Отцовство (франц.).
45 Здесь: делаю один мазок... с Другой стороны. Так я и работаю и не хочу ничего другого, как только нарисовать картину, но в результате всегда получается голова че¬ловека (франц.).
ловы — одна голова высовывалась из-за другой, из-за более объемного темного шабло-на)? Голова из большой картины, о кото¬рой я говорил, кажется переведенной в двух-мерность одной из его скульптур, сде¬ланных из листового железа. Не то чтобы он ду-мал об этом заранее, нет, он откры¬вает это, глядя на картину вместе с нами, и говорит: «Хм, можно было бы даже сде¬лать скульптуру, вырезать из железа два профиля, один побольше, другой помень¬ше, и потом сложить, потом раскрасить железо, вот так и вот так. Можно было бы также пробить здесь и вывернуть наружу и получить таким обра-зом ухо...»
Ничего преходящего, ничего искусственного: это разговор почти ремесленника, мысль прикована к работе, к рукам, к ма¬териалу.
Вот так мы и продолжаем разговаривать. «Нет, поставьте ее рядом с другой. Дышит ли это обнаженная женщина или же са¬ма живопись? Я всегда думал о дыхании живопи-си» (Пикассо).
Потом пошел парад голов. Мы начали с того, что уже видели и перевидели, останав¬ливались или бегло скользили взглядом по какой-нибудь голове и вдруг впереди заме¬чали что-то неизвестное, какой-то «X» с розово-фисташковой рукой, с зигзагообразны-ми мазками черного по едва заметному золотисто-желтому frottage 46. И ничего боль¬ше. И тем не менее это уже новое пред¬ставление о голове, отличной от всех дру¬гих, сделанных самим Пикассо и ранее, и совсем недавно. Их, этих последних голов, будет десятка четыре, а то и пять, и доста¬точно поставить любые две из них рядом, чтобы увидеть, что в каждой заключен свой собственный смысл, и никогда нет повторений, и ничто не написано впустую.
В тот вечер в «верхней студии», таким образом, мы смотрели новые комбинации, со-ставляя картины по пять или шесть, едва прислонив их друг к другу, чудом удерживая их в равновесии, а потом раз¬бирая все и снова ставя их на прежнее ме¬сто к стене.
Мы посмотрели уже почти шестьдесят картин, когда Пикассо сказал, что на се¬годня хватит — он устал и думает, что устали и мы.
Было уже почти темно, но кто-то из нас сказал, что мы не устали. Пикассо прошел в соседнюю студию и возвратился, держа в руках «Мальчика с сидящим на плечах у него ребенком» — розового периода; потом еще «Семью» 1906 года и никогда не публико-вавшуюся, потом ню («Са c'est avant «Mademoiselles d'Avignon» 47, которое мы никогда не видели. Холст полутора метров, находящийся в плачевном состоянии, кото¬рый оста-вался свернутым, может быть, лет шестьдесят. Ню с согнутой под прямым углом ногой обладает удивительной мощью и жизненной силой. Розовый, охра и черный цвета обре-ли загадочность наскальной жи¬вописи.
Мало-помалу мастерская наполнилась картинами (от 1905 по 1965 г.), которые Пи-кассо выуживал в соседней комнате. Эти шестьдесят лет превращались в тысячу или две. Охрено-розовое ню 1905 года на¬ходило естественное продолжение в лежа¬щей мо-дели на совсем недавней, еще не просохшей картине, от которой у меня на ладони ос-тался голубой след.
Мы зажгли свет. Пикассо, развертывая полотно пятого года, никогда не вставляв¬шееся в раму, печально говорил: «Оно в таком виде потому, что его надо было вста¬вить в раму, а я его все так и не вставлял. Но это непременно сделают, вот увидишь в Лувре или ailleurs 48 решат, где и как на¬до ее подогнуть у mettrons un cadre aussi 49, с уверен-ностью решат то, что сам я не ос¬мелился бы сделать». (Мне пришла на ум тогда одна фраза Пикассо, которую лет тридцать — сорок назад процитировал Ара¬гон: «La grande affaire, c'est l'espace entre le tableau et le cadre» 50. Это был счастливый, беспечный ве-чер, когда нас снова объединяло глубокое чувство любви, когда мы ощущали трепет на-
_________
46 «Трение», «натирка» — специальная техника, привносящая элемент автоматизма
и потому весьма любимая сюрреалистами и т. п.
47 Это — до «Авиньонских барышень» {франц.).
48 В другом месте (франц.).
49 вставить в раму (франц.).
50 Что очень важно — так это пространст¬во между картиной и рамой (франц.).
ших юных лет, звон колокола поутру и дни, когда мы писали горы, небо или лица друга или отца, когда живопись означала только живопись, и ни¬чего более, когда все было трудно, но все было совершенно естественно и просто и не было намека ни на какое от-чуждение и никакого вмешательства в наши дела, ни¬какого противопоставления, а бы-ли только надежда и любовь. Над нами, как говорит¬ся, витал «добрый гений», и нам казалось, что для нас нет ничего на свете более ес¬тественного, чем живопись.
И, словно услыхав мои мысли, Пикассо сказал, что, по существу, вся его работа, все то, что он сделал, то, что нас сейчас здесь окружало,— это нечто приближаю¬щееся к живописи. «C'est peut-etre се qu'il у a de plus proche 51. El mas vecino» 52, —до¬бавил он, беря в руки одно из своих по¬следних полотен и рассматривая его так, словно вокруг не было ни души.
Редко, если не считать тех нескольких раз, когда я смотрел произведения старого
искусства, мне открывался смысл слова «живопись» во всей ее простоте и чистоте.
Может показаться странным, что я гово¬рю таким образом о художнике, чей гений многим казался дьявольским, о художнике, который безжалостно смещал формы, раз-рушая их с помощью топора и молотка, выворачивая их наизнанку и ставя их с ног на голову, совмещая их друг с другом и расчленяя их, подобно хирургу, который не внем-лет ничему другому, кроме голоса своего вдохновения и своей всемогущей во¬ли. Но ре-чь шла о том едином понимании живописи, которое объединяло его и с «мясником» Рембрандтом, и параноиком Ван Гогом, и с Эль Греко maricon 53 и ис¬пившим горькую чашу Микенланджело, и с любым молодым человеком, по велению сердца готовящим-ся начать свой путь в живописи,— объединяло общим братством за одним и тем же круглым столом.
Пикассо — консерватор или новатор? Но, следуя единственно возможной револю¬ционной практике (а революция означает не бездействие, но именно действие), нель¬зя быть новатором, не охраняя прошлого.
Он — гуманист в единственно возможном сегодня смысле. А это значит, по-моему, выдержать испытание делом, суметь остать¬ся гуманистом, не потеряв себя в «сублими-ровании» всего на свете, сохранить рав¬новесие между миром полностью человеческим и полностью предметным, которого трудно достигнуть и сохранить.
Кубизм Пикассо не был анатомией вещей («Пикассо препарирует предмет»). Если
бы кубизм был «разложением» предмета, то он был бы бессмысленной затеей. Что оз¬начает вообще препарирование предмета, или «поиски сущности вещей»? (Какова сущ-ность бутылки? Или черепа? Или сту¬ла, или изогнутых ветвей, или неба?) Для Пикассо, как и для всякого другого, пред¬меты таковы, каковы они есть, какими мы их восприни-маем и какими они нам кажут¬ся; но для Пикассо, как и для всякого, кто верит в реаль-ность и чувствует себя при¬частным к ней, человек не капитулирует перед вещами, ибо он не может этого сде¬лать, каковы бы ни были причины, опреде¬ляющие его regards54. И до тех пор, пока человек не капитулирует, останется воз¬можность суждения, метафо-ры.
Как-то, уже давно, Пикассо сказал, что ему хотелось бы написать carrefour55, где
люди сходятся, сталкиваются и встре¬чаются.
Но кто эти люди для Пикассо, для вас, и для меня, и для любого другого? Кто они, если не те, кого мы знаем? Несколько лет назад в «Калифорнии» Пикассо стал пока¬зывать портреты, прислоняя их один к другому, и большая комната вдруг наполни¬лась людьми. Портрет сестры, сделанный Пикассо-юношей, и портреты Ольги, Доры, Фран-суазы, Жаклин, детей и детей, став¬ших взрослыми, друзей.
Вот он твой carrefour, Пабло, и ты его писал шестьдесят с лишним лет, в течение всей жизни. И это также и наш carrefour.
__________
51 Это, возможно, то, что есть наиболее близкое к ней (франц.).
52 Наиболее близкое (исп.).
53 Угрюмый (исп.).
54 Взгляды (франц.).
55 Перекресток (франц.).
С Пикассо начинается новая героическая эра в живописи отчаянное и могучее прос¬лавление человека. Человек и предметы — единственная его тема. Как и полагается ху-дожнику. И то и другое для него — един¬ственно жизненная материя.
Другой факт, имеющий отношение к кри¬тической интерпретации творчества Пикас¬со, касается его политической и граждан¬ской позиций. Сколько глупостей было ска¬зано на эту тему! И все-таки должна быть очевидной связь, которая существует меж¬ду этими двумя вещами: его Искусство восстает против безразличия. Как мог бы человек, кото-рый чувствует себя сопри¬частным всему на свете, не сделать свой гражданский выбор?
Является ли Пикассо марксистским ху¬дожником? Думаю, что да, хотя этот ответ, как и вопрос, остается висящим в воздухе.
В 1938 году в Италию нелегальным путем попала репродукция «Герники» на от-крыт¬ке. Я носил эту открытку в бумажнике го¬дами как партийный билет до тех пор, по¬ка открытка не истрепалась и пока я не смог ее заменить новым билетом, вновь выдан-ным мне моей партией, перешедшей на легальное положение после освобождения.
В Италии в 1945—1946 годах возникло движение молодых художников, которое на-зывалось «После «Герники». Это были двадцатилетние юноши, тогда как нам было уже за тридцать, но всех нас вместе объе¬динял опыт борьбы за освобождение, кото¬рый по-мог нам прояснить идеи.
К несчастью, ловкие политики и давление вкуса к информальному и абстрактному изменили позицию этой группы, которая прежде глубоко проникла в суть современ¬ного реализма.
24 октября 1961 года
Я в Канне с 23-го числа. Пикассо исчез. Я знаю, где он, но знаю также, что мы дол¬жны оставить его в покое, чтобы он на¬брался сил для двухдневного праздника, ко¬торый измучит его. Но вероятнее всего, что измучимся мы сами, а он останется свеж как роза. Когда он затевает какое-нибудь дело, то конца этому не видно. Вместо од¬ного возника-ют еще два, еще три, а потом вдруг Пикассо скажет: «On va voir les tab¬leaux» 56. И так продолжается до зари.
Дни эти тяжелые и неопределенные. Все вокруг наполнено неизвестностью и недо-вольством. Люди, близкие Пикассо, встре¬чаются за столиком у «Феликса», или болта-ются между «Мажестик» и «Мирамар», либо слоняются по Круазет: Домингин и Лю-чия, Элен Пармелен и Пиньон, Мишель Лейрис и Д. Д. Дункан. В газетах читаем ста-тьи, посвященные дню его рождения. Выдумки журналистов, сфабрикованные интер-вью, ложные известия. Апология и яд, ничтожность, зависть и подхалимство. Глупень-кая рекламная спекуляция. Кто лю¬бит Пикассо и кто чем-то ему обязан, этим только огорчается. Помимо того, чем он яв¬ляется для публики, Пикассо прежде всего худож-ник, человек, дни и ночи которого наполнены живописью, работой в ней и думами о ней. Пикассо прежде всего таков, а сегодня кажется, что все хотят забыть об этом, пото-му что на виду у всех — персо¬наж с обложки иллюстрированных журна¬лов. Сегодня я думаю, сколько же для всех нас значит его умение так просто и уве¬ренно быть только художником. Особен¬но если мы должны продолжать верить, для того чтобы не пасть духом, в живопись, не подменяя ее ничем другим.
27 октября 1961 года
Многие художники, даже из тех, кто на него нападал, прислали ему телеграммы по случаю восьмидесятилетия. Пикассо дово¬лен этим. Он мне показывает телеграммы от X, У, Z. Есть даже телеграммы от Лоржу и от Фужерона.57 «Я ничего не имею против него,— говорит мне Пикассо.— Даже против его живописи, она не так уж плоха, как о ней говорят». Потом добавляет, словно продолжая какую-то свою мысль: «Да и вооб¬ще я люблю всех художников, даже пло¬хих, как алкоголик, для которого все равно, какое вино пить, лишь бы было вино».
Я перелистал папку с рисунками Пикас¬со: каждый раз — росчерк пера и две се¬кунды для исполнения. К иному, исправлен¬ному, он возвращался несколько раз. На другом,
__________
56 Пойдем смотреть картины (франц.).
57 Бернар Лоржу и Андре Фужерон — французские художники.
карандашом, виднелись следы ре¬зинки. Еще на другом — две кляксы разве¬денной во-дой туши, высушенные промока¬тельной бумагой.
Ему помогает старательная резинка, кото¬рой он искусно пользуется, ему помогает и промокательная бумага. Но нужно осте¬регаться интерпретаций Пикассо в маги¬ческом ключе. Поэтому я не согласен с фильмом Клюзо «Тайна Пикассо» и с дру¬гими крити-ческими интерпретациями по¬добного рода.
28 октября 1961 года
Пикассо в постели, и это немножко за¬бавно. Он весел и молод и соскочил с кро¬вати, чтобы показать нам свои ноги юного атлета. Потом он нам дал clef de champs — разре-шение спуститься в студию, чтобы по¬смотреть картины; больше трех часов мы провели в его мастерских — трех-четырех больших смежных комнатах. Более трехсот расстав-ленных повсюду больших и малых полотен, папок с рисунками, керамики, скульптур. Вот серия вариаций на тему «Le dejeuner sur l'herbe»58. Первые сдела¬ны в начале 60-х годов, потом следует пе¬рерыв, а потом сразу около сорока deeuners 61-го года — боль-ших, средних, маленьких и совсем крошечных. Я еще и сейчас взволнован этой моей уединенной беседой с картинами, которая мне позво¬лила смотреть на них без помех.
Пикассо любит при встрече со своими старыми коллегами вести долгие творческо-критические беседы, в которых переме¬шиваются и профессиональные наблюдения, и критические дедукции, и новые замыслы, и острые проблемы живописи — полет его фантазии становится все вольнее и выше.
Пикассо любит повторять, что «с худож¬никами нет возможности разговаривать». Он говорит это грустно и со смирением. «Годами,— говорит он,— мне не удается погово-рить с художником». И, может быть, именно поэтому он и ведет свой вечный разговор с Курбе, с Делакруа, с Кранахом, Веласкесом, а теперь — с Мане. Эта потреб¬ность по-говорить о живописи заставляет его беседовать с великими мастерами. Как со всеми, и с ними Пикассо иногда бывает покорным и уступчивым, внимательным слушателем, а иногда деспотичным и дерз¬ким.
Он и дает «высказаться» художнику, с которым беседует, и поддерживает его, но также противоречит ему и перебивает его, как при настоящем споре.
Было как-то сказано, что Пикассо «един¬ственный творческий историк искусства, су¬ществующий в наши дни»,
поскольку искус¬ство всего человечества было им «оживле¬но» и «изобретено заново» (Д. Купер). Од¬нако я думаю, что эти беседы с каким-то од-ним определенным произведением яв¬ляют собой нечто иное. Конечно, здесь есть и творческая критика, и даже анализ языка, но главным образом это — «разго¬вор» с ху-дожником, привнесение в беседу новых идей, ответов, фантазий. Он начи¬нает, к приме-ру, изучать какую-нибудь де¬таль фигуры купальщицы на заднем плане картины Мане, потом переходит к купальщи¬цам Сезанна и, наконец, к женщине, мою¬щей ноги, в кар-тине самого Пикассо. Тема беседы непрерывно расширяется. Серые и лазурные краски плетут сеть, в которую по¬падется Сезанн, потом она опустеет, потом «наполнится» вновь ассоциациями, став се¬тью другой, коричнево-зеленой, превратив¬шись в ловушку для Курбе.
Разговор с одним художником, таким образом, выливается в симпозиум худож¬ников. В беседу втроем или вчетвером.
Я говорю Пикассо, что, в сущности, он только и делает, что беседует с художни¬ками. На что он мрачно отвечает: «Oui, au cimetiere»59.
__________
58 «Завтрак на траве» (франц.). Имеется в виду известная картина Э. Мане.
59 Да, на кладбище (франц.).
Просмотров: 1186 Комментариев: 5 Перейти к комментариям
В дальнейшем представлю другие очерки. источник: журнал Иностранная литература №4, год неизвестен.
Приятного рочтения.
Ремесло художника
РЕНАТО ГУТТУЗО
Через несколько месяцев Пи¬кассо исполнится 84 года, но он не «старый мастер», не па-мятник, не символ славы, не музей, а действую¬щий художник, словно ему 35 - 40 лет, он в курсе всех актуальных проблем, и вместо того, чтобы спокойно проводить свою славную старость, живя вдали от Па¬рижа, (как это принято), не читая «супер-критических» книг, ста-тей, журналов, не посещая выставок, не желая нечего знать об «информальном», «новой фи-гуративности», «оп» и «поп», он живет как молодой и активный, постоянно перемещающий-ся между Сен-Жермен-де-Пре и Пятой авеню, между Касселем и Венецией.
Объяснение подобного «случая» лежит, как всегда» в том подходе к реальности, который диктуется особенностями его на¬туры. Он является пока единственным среди всех великих художников своего поко¬ления, который не останавливался. Доста¬точно обратиться на мгно-вение мыслью к представителям его поколения, к его совре¬менникам.
Достаточно подумать о творчестве худож¬ников, даже величайших, о том, что в основном их творчество завершилось к кон¬цу 20-х годов. О Браке, Матиссе, Кандин¬ском, Мондриане, Руо, Шагале.
Я хочу сказать, что на протяжении их творческого пути эти художники создали несколько шедевров, «рафинировали», «углубляли», выработали новые, порой чу¬десные «варианты», двигали вперед «самих себя». Но то, что сделал Пикассо, это со¬всем другое — постоянное введение новых изобразительных идей не для себя, но для других; это и было качественным ростом общего опыта современного искусства. И он всегда автоматически — при непрекра-щающейся смене опытов и поколений — оставался «пионером».
Сказанное мною ничуть не умаляет ни заслуг, ни славы всех названных выше художни-ков. Это только указывает на иск¬лючительность Пикассо в сравнении с его великими совре-менниками. В каком-то смысле, как у naїf, в его живописи нет про¬гресса.
Я отдаю себе отчет в том, что тот, кто следует моде, заметить этого не может. Но со мно-гих импровизированных трибун (со¬временное искусство было открыто у нас, как известно, около 1947 года) раздаются голоса, что Пикассо «кончился» уже где-то в 30—35-м годах, голоса, которые нет нуж¬ды даже опровергать. Достаточно «Герники» и всего творчества Пи-кассо год за го¬дом — «Резни в Корее», новых парафраз Курбе, Делакруа, Пуссена, Кранаха, порт¬ретов 1956—1957 годов, вплоть до ню, и «голов» 1964—1965 гг. (Я не упоминал шедев-ров, а лишь «шаги» вперед, новые при¬знаки, новые идеи в живописи.) Известно, что Пикассо (он сказал это сам), начиная с самых первых своих попыток, никогда не был «эксперимента-тором». Слияние экспериментализма с авангардизмом — это явле¬ние совсем недавнее, и свя-зано оно с утратой веры во что бы то ни было, со смутным предвидением атомной катастро-фы, с убежденностью в том, что все недол¬говечно, с принятием фатальной неизбеж¬ности превращения в товар даже «продук¬тов культуры». Все это вместе взятое ста¬новится — от-части неосознанно — оправда¬нием стремления приняться за дело и под¬готовиться к воспри-ятию следующих одно за другим «предложений» по мере того, как они появляются в игре информации, потре¬бительства и обмена.
Напротив, прежние «авангарды» были все явлениями утверждающими. Пикассо любит го-ворить, почти сам удивляясь это¬му и почти с огорчением, что в детстве он никогда не рисо-вал и не писал «как ребе¬нок».
Голубая и розовая живопись, пронегритянские и первые кубистические картины — все это законченные, совершенные произведения, утверждающие определенную идею. Это не «гипотезы», и не «догадки», а ни в коем случае не «вопросы». Я всегда думал, что если прав-да то, что художник, как и каждый человек, вопрошает мир, то правда также и то, что он сам же пытается и дать ответ на то, о чем спрашивалось. А это все равно что сказать: «...на то, что у него спросили».
Пикассо вопрошает, исследует, фиксиру¬ет, отвечает. Это и есть способ действия тех, кто старается сделать «зримым бытие» (то есть то, что существует).
Речь не идет о том, что подобный ответ является результатом мыслительного про¬цесса из серии последовательных и осоз¬нанных фаз или этапов вплоть до сознатель¬ного вывода. Это означает, что картина является объективным дополнением к по¬знанной реальности, углубле-нием ее позна¬ния и в этом качестве и ответом. «Можно вполне сказать, что в творческом процес¬се доли сознательного и бессознательного не отличаются друг от друга, в точности так же как течение реки при дневном све¬те не отличается от течения той же реки в темноте ночи» (Рудольф Арнхейм 43. «Герника»).
(Точнее было бы сказать, что художник и спрашивает, и отвечает одновременно.)
После последней войны в изобразитель¬ном искусстве не было больше скандалов. Оппози-ция «филистеров» прекратила свое существование словно по мановению вол¬шебной палоч-ки: дирекции музеев, главы государств, короли и королевы, универси¬теты, главные редакции и третьи полосы самых консервативных газет, издательства не оказывают больше никакого сопротивле¬ния. Ничто более не дает повода к сканда¬лам, кроме некоторых фактов, которые в конечном счете концентрируются вокруг одного человека: Пикассо. И вокруг одних поисков — реализма, той красной muleta, которая приводит в ярость конформистско¬го быка. Но са-мым примечательным фак¬том является то, что Пикассо скандализи¬рует не филистеров, кото-рые больше не существуют (либо так перемешались с не¬филистерами, что аннулировали се-бя как самостоятельную категорию), а представи¬телей «культуры». Рынок, разумеется, не спорит о Пикассо: его картины продаются так же быстро, как бутерброды при входе на ста-дион. Книги о нем выходят ежегод¬но десятками и поглощаются мгновенно и на самых раз-ных уровнях — от коллекцио¬неров номерных изданий до приемных дан¬тистов. Именно элиту Пикассо удается ка¬ким-то образом оскорбить, потому что еще и сегодня на пороге своего восьмидесяти-четырехлетия он с присущей ему реалисти¬ческой и жизненной силой восстает против всех нагромождающихся друг на друга условностей.
Это противоречие «условностям» (и отри¬цательная реакция элиты) возникает по той при-
чине, что Пикассо, никогда не находясь в бездействии, спорит не с «идеями време¬ни», не с различными течениями, но с са¬мим временем, с самой действительностью, и с самим позна-нием. Чтобы реализовать это свое отношение к «миропорядку», Пи¬кассо никогда не испыты-вал необходимости ни в чем другом, кроме вещей зримых — предметов, природы, живот-ных, людей. Никакой метафизики в сюжетах, никакого мистицизма, никакого «бегства от действи¬тельности», ни малейшего остранения: газо¬вая плита, лангуста, ню и т. д. служат до¬статочным материалом для долгой работы, когда попадают в руки такого человека, как Пи-кассо.
Чтобы продемонстрировать эти беглые наблюдения, нам нужно будет углубиться в проч-тение тех картин, которые перекли¬каются между собой на протяжении деся¬тилетий, даже по-лувека, в прочтение их форм и показать по ним, как обозначение, например, глаза или руки, поскольку оно лишь обозначение, никогда не повторяется, но кажется впервые интуитивно угаданным в каждой из этих картин.
Постоянная напряженность взаимоотно¬шений между тем, что кажется, и между тем, что есть в действительности, при кото¬рой то, что кажется, никогда не отвергну¬то, но только про-анализировано, вскрыто, разобрано таким образом, что всякий раз проявляется во все более интегральном аспекте,
У Пикассо различные способы понима¬ния, видения и чувствования диалектически к авто-матически дополняют друг друга. И поскольку его деятельность — это посто¬янное стремле-ние к пониманию, а не повто¬рение уже найденного, то она является и творческой, и актив-ной.
Пикассо в Мужене с 4 до 12 марта.
Во второй половине дня 5 числа мы под¬нялись в его большую мастерскую, чтобы посмо-треть написанные им недавно кар¬тины.
Вдоль стен тесно стояло более двухсот картин, датированных с января 1964 года по 3 марта 1965 года.
Пикассо начал показывать полотна, пока нам не удалось убедить его сесть, и мы
___________
43 Искусствовед и теоретик искусства США, занимающийся вопросами психоло¬гии зрения и другими проблемами искусст¬ва на стыке с различными науками.
продолжали уже сами поворачивать их лицевой стороной, разглядывать, отно¬сить в другой конец зала, и так вплоть до последней капли солнца, а потом уж и при зажжен-ном свете.
Я не предполагаю в этих заметках углуб¬ляться в критический анализ, хотя у меня и было к тому страстное искушение. Хочу только рассказать, что было в тот вечер, и в следующий тоже, и еще в один, и четыре дня спустя, когда был с нами и наш друг Ман-цу.
О жестах, о шагах, о том, как передвига¬ли полотна, поворачивали их, подносили их к свету, о наших словах и репликах Пикассо, о зажженных сигаретах и о том, как Жаклин несколько раз фотографировала нас. О небе Мужена, менявшем свой цвет, в сторону Напуля, Канна, о картинах, которые Пикассо хотел нам показать в сол¬нечном прямо-угольнике, чтобы свет падал на них, чтоб потом вновь посмотреть на них при другом освещении; о том, как мы переставляли всю эту массу картин в на¬прасных поисках сво-бодного места у стен. О том, как мы смотрели сразу несколько картин на одну тему: портреты садовника с двухмесячным ребенком на руках (paternite 44, как их называет Пикассо) или пейзажи с горами, домами, небом, оливко¬выми деревьями, которые про-должались и за большими окнами мастерской.
«Видишь, я беру чуточку зелени и Je lui torde le сои, потом я должен про¬должать фиолетовым de 1'autre cote. Je fais comme car je ne veux faire qurun tableau, mais apres e'est toujours une tete d'homme (45) (или дерево или ню)».
У Пикассо любая вещь воспринята «бук¬вально» (отношение художника и модели буквально зрительное — непосредственное восприятие факта, который постоянно пов-торяется).
Можно было бы поспорить о том, каким образом могут сосуществовать у Пикассо две одинаково присущих ему позиции: от¬крытие предмета, увиденного таким, как он есть, и изученного, и всегдашнее превраще¬ние его в символ. Глаз — это «тот самый глаз», который был увиден Пикассо, охарак¬теризован им, открыт, индивидуализирован, сделан «похоже» и т. д., но в то же самое время — это только обозначение, символ, ко¬торый может быть повторен (как глаз в профиль у Джотто и т. д.), воплощение са¬мого свойства зрения.
Пока мы смотрели картины и передвига¬ли их, перевертывали и подносили их к све¬ту, поворачивали к стене, Пикассо говорил, предлагал посмотреть картину одну рядом с другой, поднимался с места, чтобы их переставить. «Если ты подойдешь поближе, то ничего не увидишь, кроме нескольких пятен, но чуть с более далекого расстояния это уже голова (или дерево, или ню), но если ты уже постиг эти цветовые пятна, тогда уви-дишь и дерево, и голову, и ню». Для, Пикассо показывать картины своим друзьям — все равно что самому себе. Он смотрит, изучает, продолжает работать. Вот сейчас пе-ред нами полотно длиной в 120 см, потрясающая живопись в серых тонах, в которой применена вновь компоновка и раз¬ложение объемов, напоминающая его кар¬тины пред-кубистического периода (назван¬ные негритянскими, хотя они скорее были не негритян-скими, а развитием мысли Се¬занна). Речь идет о лежащей обнаженной женщине, кото-рая играет с черным котен¬ком.
Пикассо любит говорить, что скульптура — это лучший комментарий или объясне¬ние живописи. Можно было бы сказать, что, делая голову с двумя профилями у этой обнаженной, Пикассо захотел сделать обратное: создать «комментарий» к своей скульптуре.
Внизу, в огромной мастерской-складе, где повсюду рассеяны скульптуры (Манцу
двигался среди них, словно в густом лесу в поисках грибов), находится большое число
разрезанных, смятых, засунутых один в другой шаблонов из листового железа (две го-
__________
44 Отцовство (франц.).
45 Здесь: делаю один мазок... с Другой стороны. Так я и работаю и не хочу ничего другого, как только нарисовать картину, но в результате всегда получается голова че¬ловека (франц.).
ловы — одна голова высовывалась из-за другой, из-за более объемного темного шабло-на)? Голова из большой картины, о кото¬рой я говорил, кажется переведенной в двух-мерность одной из его скульптур, сде¬ланных из листового железа. Не то чтобы он ду-мал об этом заранее, нет, он откры¬вает это, глядя на картину вместе с нами, и говорит: «Хм, можно было бы даже сде¬лать скульптуру, вырезать из железа два профиля, один побольше, другой помень¬ше, и потом сложить, потом раскрасить железо, вот так и вот так. Можно было бы также пробить здесь и вывернуть наружу и получить таким обра-зом ухо...»
Ничего преходящего, ничего искусственного: это разговор почти ремесленника, мысль прикована к работе, к рукам, к ма¬териалу.
Вот так мы и продолжаем разговаривать. «Нет, поставьте ее рядом с другой. Дышит ли это обнаженная женщина или же са¬ма живопись? Я всегда думал о дыхании живопи-си» (Пикассо).
Потом пошел парад голов. Мы начали с того, что уже видели и перевидели, останав¬ливались или бегло скользили взглядом по какой-нибудь голове и вдруг впереди заме¬чали что-то неизвестное, какой-то «X» с розово-фисташковой рукой, с зигзагообразны-ми мазками черного по едва заметному золотисто-желтому frottage 46. И ничего боль¬ше. И тем не менее это уже новое пред¬ставление о голове, отличной от всех дру¬гих, сделанных самим Пикассо и ранее, и совсем недавно. Их, этих последних голов, будет десятка четыре, а то и пять, и доста¬точно поставить любые две из них рядом, чтобы увидеть, что в каждой заключен свой собственный смысл, и никогда нет повторений, и ничто не написано впустую.
В тот вечер в «верхней студии», таким образом, мы смотрели новые комбинации, со-ставляя картины по пять или шесть, едва прислонив их друг к другу, чудом удерживая их в равновесии, а потом раз¬бирая все и снова ставя их на прежнее ме¬сто к стене.
Мы посмотрели уже почти шестьдесят картин, когда Пикассо сказал, что на се¬годня хватит — он устал и думает, что устали и мы.
Было уже почти темно, но кто-то из нас сказал, что мы не устали. Пикассо прошел в соседнюю студию и возвратился, держа в руках «Мальчика с сидящим на плечах у него ребенком» — розового периода; потом еще «Семью» 1906 года и никогда не публико-вавшуюся, потом ню («Са c'est avant «Mademoiselles d'Avignon» 47, которое мы никогда не видели. Холст полутора метров, находящийся в плачевном состоянии, кото¬рый оста-вался свернутым, может быть, лет шестьдесят. Ню с согнутой под прямым углом ногой обладает удивительной мощью и жизненной силой. Розовый, охра и черный цвета обре-ли загадочность наскальной жи¬вописи.
Мало-помалу мастерская наполнилась картинами (от 1905 по 1965 г.), которые Пи-кассо выуживал в соседней комнате. Эти шестьдесят лет превращались в тысячу или две. Охрено-розовое ню 1905 года на¬ходило естественное продолжение в лежа¬щей мо-дели на совсем недавней, еще не просохшей картине, от которой у меня на ладони ос-тался голубой след.
Мы зажгли свет. Пикассо, развертывая полотно пятого года, никогда не вставляв¬шееся в раму, печально говорил: «Оно в таком виде потому, что его надо было вста¬вить в раму, а я его все так и не вставлял. Но это непременно сделают, вот увидишь в Лувре или ailleurs 48 решат, где и как на¬до ее подогнуть у mettrons un cadre aussi 49, с уверен-ностью решат то, что сам я не ос¬мелился бы сделать». (Мне пришла на ум тогда одна фраза Пикассо, которую лет тридцать — сорок назад процитировал Ара¬гон: «La grande affaire, c'est l'espace entre le tableau et le cadre» 50. Это был счастливый, беспечный ве-чер, когда нас снова объединяло глубокое чувство любви, когда мы ощущали трепет на-
_________
46 «Трение», «натирка» — специальная техника, привносящая элемент автоматизма
и потому весьма любимая сюрреалистами и т. п.
47 Это — до «Авиньонских барышень» {франц.).
48 В другом месте (франц.).
49 вставить в раму (франц.).
50 Что очень важно — так это пространст¬во между картиной и рамой (франц.).
ших юных лет, звон колокола поутру и дни, когда мы писали горы, небо или лица друга или отца, когда живопись означала только живопись, и ни¬чего более, когда все было трудно, но все было совершенно естественно и просто и не было намека ни на какое от-чуждение и никакого вмешательства в наши дела, ни¬какого противопоставления, а бы-ли только надежда и любовь. Над нами, как говорит¬ся, витал «добрый гений», и нам казалось, что для нас нет ничего на свете более ес¬тественного, чем живопись.
И, словно услыхав мои мысли, Пикассо сказал, что, по существу, вся его работа, все то, что он сделал, то, что нас сейчас здесь окружало,— это нечто приближаю¬щееся к живописи. «C'est peut-etre се qu'il у a de plus proche 51. El mas vecino» 52, —до¬бавил он, беря в руки одно из своих по¬следних полотен и рассматривая его так, словно вокруг не было ни души.
Редко, если не считать тех нескольких раз, когда я смотрел произведения старого
искусства, мне открывался смысл слова «живопись» во всей ее простоте и чистоте.
Может показаться странным, что я гово¬рю таким образом о художнике, чей гений многим казался дьявольским, о художнике, который безжалостно смещал формы, раз-рушая их с помощью топора и молотка, выворачивая их наизнанку и ставя их с ног на голову, совмещая их друг с другом и расчленяя их, подобно хирургу, который не внем-лет ничему другому, кроме голоса своего вдохновения и своей всемогущей во¬ли. Но ре-чь шла о том едином понимании живописи, которое объединяло его и с «мясником» Рембрандтом, и параноиком Ван Гогом, и с Эль Греко maricon 53 и ис¬пившим горькую чашу Микенланджело, и с любым молодым человеком, по велению сердца готовящим-ся начать свой путь в живописи,— объединяло общим братством за одним и тем же круглым столом.
Пикассо — консерватор или новатор? Но, следуя единственно возможной револю¬ционной практике (а революция означает не бездействие, но именно действие), нель¬зя быть новатором, не охраняя прошлого.
Он — гуманист в единственно возможном сегодня смысле. А это значит, по-моему, выдержать испытание делом, суметь остать¬ся гуманистом, не потеряв себя в «сублими-ровании» всего на свете, сохранить рав¬новесие между миром полностью человеческим и полностью предметным, которого трудно достигнуть и сохранить.
Кубизм Пикассо не был анатомией вещей («Пикассо препарирует предмет»). Если
бы кубизм был «разложением» предмета, то он был бы бессмысленной затеей. Что оз¬начает вообще препарирование предмета, или «поиски сущности вещей»? (Какова сущ-ность бутылки? Или черепа? Или сту¬ла, или изогнутых ветвей, или неба?) Для Пикассо, как и для всякого другого, пред¬меты таковы, каковы они есть, какими мы их восприни-маем и какими они нам кажут¬ся; но для Пикассо, как и для всякого, кто верит в реаль-ность и чувствует себя при¬частным к ней, человек не капитулирует перед вещами, ибо он не может этого сде¬лать, каковы бы ни были причины, опреде¬ляющие его regards54. И до тех пор, пока человек не капитулирует, останется воз¬можность суждения, метафо-ры.
Как-то, уже давно, Пикассо сказал, что ему хотелось бы написать carrefour55, где
люди сходятся, сталкиваются и встре¬чаются.
Но кто эти люди для Пикассо, для вас, и для меня, и для любого другого? Кто они, если не те, кого мы знаем? Несколько лет назад в «Калифорнии» Пикассо стал пока¬зывать портреты, прислоняя их один к другому, и большая комната вдруг наполни¬лась людьми. Портрет сестры, сделанный Пикассо-юношей, и портреты Ольги, Доры, Фран-суазы, Жаклин, детей и детей, став¬ших взрослыми, друзей.
Вот он твой carrefour, Пабло, и ты его писал шестьдесят с лишним лет, в течение всей жизни. И это также и наш carrefour.
__________
51 Это, возможно, то, что есть наиболее близкое к ней (франц.).
52 Наиболее близкое (исп.).
53 Угрюмый (исп.).
54 Взгляды (франц.).
55 Перекресток (франц.).
С Пикассо начинается новая героическая эра в живописи отчаянное и могучее прос¬лавление человека. Человек и предметы — единственная его тема. Как и полагается ху-дожнику. И то и другое для него — един¬ственно жизненная материя.
Другой факт, имеющий отношение к кри¬тической интерпретации творчества Пикас¬со, касается его политической и граждан¬ской позиций. Сколько глупостей было ска¬зано на эту тему! И все-таки должна быть очевидной связь, которая существует меж¬ду этими двумя вещами: его Искусство восстает против безразличия. Как мог бы человек, кото-рый чувствует себя сопри¬частным всему на свете, не сделать свой гражданский выбор?
Является ли Пикассо марксистским ху¬дожником? Думаю, что да, хотя этот ответ, как и вопрос, остается висящим в воздухе.
В 1938 году в Италию нелегальным путем попала репродукция «Герники» на от-крыт¬ке. Я носил эту открытку в бумажнике го¬дами как партийный билет до тех пор, по¬ка открытка не истрепалась и пока я не смог ее заменить новым билетом, вновь выдан-ным мне моей партией, перешедшей на легальное положение после освобождения.
В Италии в 1945—1946 годах возникло движение молодых художников, которое на-зывалось «После «Герники». Это были двадцатилетние юноши, тогда как нам было уже за тридцать, но всех нас вместе объе¬динял опыт борьбы за освобождение, кото¬рый по-мог нам прояснить идеи.
К несчастью, ловкие политики и давление вкуса к информальному и абстрактному изменили позицию этой группы, которая прежде глубоко проникла в суть современ¬ного реализма.
24 октября 1961 года
Я в Канне с 23-го числа. Пикассо исчез. Я знаю, где он, но знаю также, что мы дол¬жны оставить его в покое, чтобы он на¬брался сил для двухдневного праздника, ко¬торый измучит его. Но вероятнее всего, что измучимся мы сами, а он останется свеж как роза. Когда он затевает какое-нибудь дело, то конца этому не видно. Вместо од¬ного возника-ют еще два, еще три, а потом вдруг Пикассо скажет: «On va voir les tab¬leaux» 56. И так продолжается до зари.
Дни эти тяжелые и неопределенные. Все вокруг наполнено неизвестностью и недо-вольством. Люди, близкие Пикассо, встре¬чаются за столиком у «Феликса», или болта-ются между «Мажестик» и «Мирамар», либо слоняются по Круазет: Домингин и Лю-чия, Элен Пармелен и Пиньон, Мишель Лейрис и Д. Д. Дункан. В газетах читаем ста-тьи, посвященные дню его рождения. Выдумки журналистов, сфабрикованные интер-вью, ложные известия. Апология и яд, ничтожность, зависть и подхалимство. Глупень-кая рекламная спекуляция. Кто лю¬бит Пикассо и кто чем-то ему обязан, этим только огорчается. Помимо того, чем он яв¬ляется для публики, Пикассо прежде всего худож-ник, человек, дни и ночи которого наполнены живописью, работой в ней и думами о ней. Пикассо прежде всего таков, а сегодня кажется, что все хотят забыть об этом, пото-му что на виду у всех — персо¬наж с обложки иллюстрированных журна¬лов. Сегодня я думаю, сколько же для всех нас значит его умение так просто и уве¬ренно быть только художником. Особен¬но если мы должны продолжать верить, для того чтобы не пасть духом, в живопись, не подменяя ее ничем другим.
27 октября 1961 года
Многие художники, даже из тех, кто на него нападал, прислали ему телеграммы по случаю восьмидесятилетия. Пикассо дово¬лен этим. Он мне показывает телеграммы от X, У, Z. Есть даже телеграммы от Лоржу и от Фужерона.57 «Я ничего не имею против него,— говорит мне Пикассо.— Даже против его живописи, она не так уж плоха, как о ней говорят». Потом добавляет, словно продолжая какую-то свою мысль: «Да и вооб¬ще я люблю всех художников, даже пло¬хих, как алкоголик, для которого все равно, какое вино пить, лишь бы было вино».
Я перелистал папку с рисунками Пикас¬со: каждый раз — росчерк пера и две се¬кунды для исполнения. К иному, исправлен¬ному, он возвращался несколько раз. На другом,
__________
56 Пойдем смотреть картины (франц.).
57 Бернар Лоржу и Андре Фужерон — французские художники.
карандашом, виднелись следы ре¬зинки. Еще на другом — две кляксы разве¬денной во-дой туши, высушенные промока¬тельной бумагой.
Ему помогает старательная резинка, кото¬рой он искусно пользуется, ему помогает и промокательная бумага. Но нужно осте¬регаться интерпретаций Пикассо в маги¬ческом ключе. Поэтому я не согласен с фильмом Клюзо «Тайна Пикассо» и с дру¬гими крити-ческими интерпретациями по¬добного рода.
28 октября 1961 года
Пикассо в постели, и это немножко за¬бавно. Он весел и молод и соскочил с кро¬вати, чтобы показать нам свои ноги юного атлета. Потом он нам дал clef de champs — разре-шение спуститься в студию, чтобы по¬смотреть картины; больше трех часов мы провели в его мастерских — трех-четырех больших смежных комнатах. Более трехсот расстав-ленных повсюду больших и малых полотен, папок с рисунками, керамики, скульптур. Вот серия вариаций на тему «Le dejeuner sur l'herbe»58. Первые сдела¬ны в начале 60-х годов, потом следует пе¬рерыв, а потом сразу около сорока deeuners 61-го года — боль-ших, средних, маленьких и совсем крошечных. Я еще и сейчас взволнован этой моей уединенной беседой с картинами, которая мне позво¬лила смотреть на них без помех.
Пикассо любит при встрече со своими старыми коллегами вести долгие творческо-критические беседы, в которых переме¬шиваются и профессиональные наблюдения, и критические дедукции, и новые замыслы, и острые проблемы живописи — полет его фантазии становится все вольнее и выше.
Пикассо любит повторять, что «с худож¬никами нет возможности разговаривать». Он говорит это грустно и со смирением. «Годами,— говорит он,— мне не удается погово-рить с художником». И, может быть, именно поэтому он и ведет свой вечный разговор с Курбе, с Делакруа, с Кранахом, Веласкесом, а теперь — с Мане. Эта потреб¬ность по-говорить о живописи заставляет его беседовать с великими мастерами. Как со всеми, и с ними Пикассо иногда бывает покорным и уступчивым, внимательным слушателем, а иногда деспотичным и дерз¬ким.
Он и дает «высказаться» художнику, с которым беседует, и поддерживает его, но также противоречит ему и перебивает его, как при настоящем споре.
Было как-то сказано, что Пикассо «един¬ственный творческий историк искусства, су¬ществующий в наши дни»,
поскольку искус¬ство всего человечества было им «оживле¬но» и «изобретено заново» (Д. Купер). Од¬нако я думаю, что эти беседы с каким-то од-ним определенным произведением яв¬ляют собой нечто иное. Конечно, здесь есть и творческая критика, и даже анализ языка, но главным образом это — «разго¬вор» с ху-дожником, привнесение в беседу новых идей, ответов, фантазий. Он начи¬нает, к приме-ру, изучать какую-нибудь де¬таль фигуры купальщицы на заднем плане картины Мане, потом переходит к купальщи¬цам Сезанна и, наконец, к женщине, мою¬щей ноги, в кар-тине самого Пикассо. Тема беседы непрерывно расширяется. Серые и лазурные краски плетут сеть, в которую по¬падется Сезанн, потом она опустеет, потом «наполнится» вновь ассоциациями, став се¬тью другой, коричнево-зеленой, превратив¬шись в ловушку для Курбе.
Разговор с одним художником, таким образом, выливается в симпозиум худож¬ников. В беседу втроем или вчетвером.
Я говорю Пикассо, что, в сущности, он только и делает, что беседует с художни¬ками. На что он мрачно отвечает: «Oui, au cimetiere»59.
__________
58 «Завтрак на траве» (франц.). Имеется в виду известная картина Э. Мане.
59 Да, на кладбище (франц.).
Трибуна сайта
Наш рупор





